Глава 11. Личные качества и наследство в долгосрочной перспективе
Теперь мы знаем, что общий объем капитала в начале XXI века не сильно отличается от уровня XVIII века. Изменилась лишь его форма: прежде капитал был земельным, затем стал недвижимым, промышленным и финансовым. Мы также знаем, что имущественная концентрация остается очень сильной, хотя и не достигает уровня столетней давности и предшествующих столетий. Самая бедная половина населения по-прежнему не владеет ничем, зато сегодня существует имущественный средний класс, которому принадлежит от четверти до трети всего имущества, а 10 % самых богатых владеют двумя третями имущества, а не девятью десятыми, как прежде. Мы также видели, что анализ траекторий доходности капитала и темпов роста, а также расхождения между к r и g позволил выявить значительную часть этой эволюции и прежде всего кумулятивную логику, которая объясняет очень высокий уровень концентрации имущества, наблюдавшийся в истории.
Однако для лучшего понимания кумулятивной логики нам следует перейти к непосредственному изучению долгосрочной эволюции той роли, которую играли наследство, дарения и сбережения в формировании состояний. Это ключевой вопрос, потому что, в принципе, один и тот же уровень имущественной концентрации вполне может привести к складыванию совершенно разных ситуаций. Общий объем капитала вполне мог остаться неизменным, однако его природа полностью преобразилась, например потому, что произошел переход от полностью наследственного капитала к капиталу, сберегаемому в течение жизни на основе трудовых доходов. Часто это изменение объясняют увеличением продолжительности жизни, которое привело к структурному росту накопления капитала в ожидании выхода на пенсию. Как мы увидим, трансформация природы капитала на самом деле была намного менее значительной, чем иногда представляют, а в некоторых странах она и вовсе не произошла. По всей видимости, в XXI веке наследство будет играть значительную роль, сравнимую с той, которую оно играло в прошлом.
Из всего этого можно сделать следующий вывод. В условиях, когда доходность капитала на протяжении длительного времени заметно превышает темпы роста экономики, наследство, т. е. состояния, накопленные в прошлом, неизбежно будет преобладать над сбережениями, т. е. над состояниями, накапливаемыми в настоящем. С чисто логической точки зрения ситуация могла бы развиваться иначе, однако в этом направлении действуют очень мощные силы. Неравенство, выраженное формулой r> g, в определенном смысле означает, что прошлое склонно поглощать будущее: богатство, созданное в прошлом, автоматически растет без всякого приложения груда и быстрее, чем богатство, которое создано трудом и благодаря которому можно накапливать сбережения. В результате в долгосрочном плане неравенство, возникшее в прошлом, а значит, и наследство неизбежно обретает непропорциональное значение.
Поскольку двадцать первое столетие будет характеризоваться снижением роста (как демографического, так и экономического) и высокой доходностью капитала (в условиях ожесточенной конкуренции между странами за привлечение капиталов), наследство, безусловно, вновь обретет такое же значение, как и в XIX веке, по крайней мере в тех странах, где будет наблюдаться такая эволюция. Она уже отчетливо прослеживается во Франции и во многих европейских странах, где рост в последние десятилетия сильно сократился, и не столь выражена в Соединенных Штатах, прежде всего вследствие более устойчивого, чем в Европе, демографического роста. Однако если в начинающемся столетии рост снизится повсеместно, как предполагают основной сценарий ООН и некоторые собственно экономические прогнозы, то возвращение наследства на былые позиции, вполне вероятно, произойдет в масштабах всей планеты.
Тем не менее это не означает, что в XXI веке структура неравенства будет такой же, как в веке девятнадцатом. Во-первых, потому, что имущественная концентрация не достигает того же уровня (в настоящее время есть больше мелких и средних рантье и меньше очень крупных рантье). Во-вторых, потому, что иерархия трудовых доходов постепенно расширяется (вследствие роста значения прослойки топ-менеджеров). И, наконец, в-третьих, потому, что эти два фактора намного больше коррелируют друг с другом, чем в прошлом. В XXI веке можно быть и топ-менеджером, и «средним рантье»: новый меритократический порядок поощряет такое сочетание, разумеется в ущерб мелкому и среднему работнику, особенно если он также является мелким рантье.
Эволюция оборота наследства в долгосрочном плане. Начнем с самого начала. Во всех обществах существует два основных способа достичь благополучия: путем труда или за счет наследства[361]. Главный вопрос заключается в том, чтобы узнать, какой из этих двух способов обогащения более распространен и более эффективен для того, чтобы достичь верхних децилей и центилей в иерархии доходов и в уровне жизни.
Вотрен в монологе, который он произносит перед Растиньяком и который мы привели в седьмой главе, дает однозначный ответ: учебой и трудом невозможно добиться комфортной и элегантной жизни, поэтому единственная реалистичная стратегия заключается в женитьбе на мадмуазель Викторине, чтобы получить ее наследство. В данном исследовании одна из моих основных целей состоит в том, чтобы понять, насколько структура неравенства во французском обществе XIX века была похожа на мир, описанный Вотреном, и понять, как и почему эта реальность менялась в ходе истории.
Начать стоит с изучения долгосрочной эволюции ежегодного оборота наследства (в XIX и в начале XX века его иногда называли «аннуитетом наследства»), т. е. общей стоимости переданных в течение одного года наследств и дарений, выраженной в процентах к национальному доходу.
Так можно измерить значение того, что передается каждый год (а значит, объем накопленного в прошлом богатства, которым можно было овладеть в течение данного года), по сравнению с произведенными и полученными в течение того же года доходами (напомним, что трудовые доходы составляют около двух третей национального дохода, а доходы с капитала отчасти обеспечиваются наследством).
Мы исследуем пример Франции, информации по которой намного больше, затем изучим, как эта эволюция протекала в других европейских странах, и наконец рассмотрим ее, насколько это возможно, в мировом масштабе.
График 11.1 отражает эволюцию оборота наследства во Франции с 1820 по 2010 год[362]. Здесь обращают на себя внимание два факта. Прежде всего в XIX веке ежегодный оборот наследства был равен 20–25 % национального дохода, а в конце столетия обозначилась тенденция к его повышению. Мы увидим, что для ежегодного оборота это очень высокий уровень, соответствующий ситуации, в которой практически весь объем имущества проистекает из наследства. В романах XIX века наследство присутствовало повсюду не только по прихоти писателей, в первую очередь Бальзака, который сам был отягощен долгами и был вынужден писать без остановки, чтобы расплатиться по ним. Это было обусловлено еще и тем, что наследство играло ключевую, основополагающую роль в обществе девятнадцатого столетия и в экономическом и социальном отношении.
При этом его значение с течением времени не уменьшалось. Напротив, в 1900- 1910-е годы, в Прекрасную эпоху, оборот наследства имел еще большее значение, чем в 1820-е годы — во времена Вотрена, Растиньяка и пансиона мадам Воке (около 25 % национального дохода по сравнению с 20 %).
Затем, в период между 1910-ми и 1950-ми годами, произошел впечатляющий обвал оборота наследства, за которым последовало планомерное повышение с 1950-х до 2000-2010-х годов, ускорившееся с 1980-х годов. Диапазон колебаний снижения и последующего повышения в течение минувшего столетия был очень велик. Ежегодный оборот наследства и дарений был относительно стабильным — в первом приближении и по сравнению с потрясениями, произошедшими впоследствии, — вплоть до Первой мировой войны. Затем резко, в пять-шесть раз, сократился в период между 1910-ми и 1950-ми годами (когда оборот наследства составлял всего 4–5 % национального дохода), после чего увеличился в три-четыре раза с 1950-х до 2000-2010-х годов (когда он приблизился к 15 % национального дохода).
Эволюция, отраженная на графике 11.1, свидетельствует о глубоких изменениях в реалиях наследства и их восприятия, а также в самой структуре неравенства. Как мы увидим, после потрясений 1914–1945 годов оборот наследства сжался в два раза сильнее, чем сократилось частное имущество. Это означает, что обвал наследства представляет собой феномен, который нельзя объяснить лишь обвалом имущества (хотя эти два процесса, разумеется, тесно связаны). Тем не менее мысль о том, что наступил конец наследства, оказала на коллективное восприятие намного более сильное впечатление, чем мысль о конце капитала. В 1950-1960-е годы наследства и дарения составляли лишь несколько пунктов национального дохода в год, поэтому было вполне логично предполагать, что наследство практически исчезло, а капитал не только стал играть меньшее значение, чем в прошлом, но и начал накапливаться сам по себе, благодаря сбережениям и личным усилиям. Несколько поколений выросли в этой реальности (стоит сказать, что в их восприятии она иногда приукрашивалась), прежде всего поколения бэби-бума, родившиеся в 1940-1950-е годы и все еще многочисленные в начале XXI века, и вполне естественно полагали, что отныне такое положение дел является нормой.
График 11.1
Ежегодный оборот наследства, выраженный в процентах к национальному доходу, во Франции в 1820–2010 годах.
ордината: Ежегодная стоимость наследств и дарований (в % к национальному доходу).
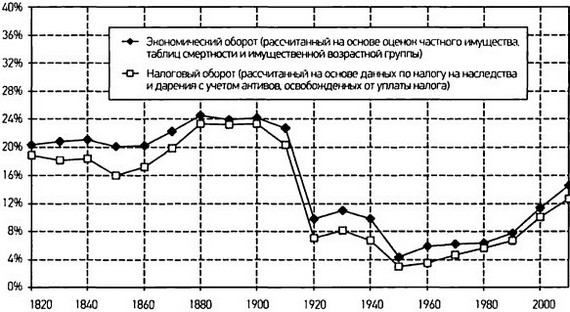
Примечание. Ежегодный оборот наследства составлял 20–25 % национального дохода в XIX веке и накануне Первой мировой войны, затем упал до 5 % в 1950-е годы и вырос до 15 % в 2010 году. Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
Напротив, более молодым поколениям, особенно тем, которые родились в 1970-1980-е годы, до определенной степени уже известно, что наследство будет иметь существенное значение в их жизни и в жизни их близких. Например, от того, получили они или нет крупные дарения, в значительной мере зависит, кто из них станет собственником, в каком возрасте, с каким супругом, где и в каком объеме; в любом случае зависимость эта сегодня намного более выражена, чем во времена поколения их родителей. Их профессиональная карьера, личная и семейная жизнь намного больше предопределяются наследством — или его отсутствием, — чем жизнь поколения бэби-бума. Однако возвращение наследства носит незавершенный характер и пока еще продолжается (уровень оборота наследства в 2000-2010-е годы находится посередине между нижней точкой, достигнутой в 1950-е годы, и верхней точкой, на которой он находился 380 в 1900-1910-е годы). На сегодняшний день оно не так сильно изменило восприятие, как предыдущий процесс, который по-прежнему преобладает в коллективном воображении. Однако в ближайшие десятилетия все может измениться.
Налоговый оборот и экономический оборот. Нужно сразу уточнить несколько аспектов, касающихся процессов, отраженных на графике 11.1. Прежде всего, очень важно включать дарения, т. е. передачу имущества, совершенную при жизни людей, иногда за несколько лет до смерти, иногда ранее, в оборот наследства, поскольку во Франции, как, впрочем, и во всех обществах, эта форма перехода имущества играла очень существенную роль в течение двух последних столетий. К тому же точное соотношение дарений и наследства сильно колебалось с течением времени, и потому исключение дарений чревато серьезным искажением анализа, а также пространственных и временных сравнений. К счастью, во Франции, в отличие от других стран, дарения регистрируются относительно точно (хотя они явно недооцениваются).
Кроме того, богатство французских исторических источников позволяет рассчитывать оборот наследства двумя разными способами, исходя из совершенно не зависимых друг от друга данных и методов. Благодаря этому мы можем констатировать очень высокую степень согласованности между двумя процессами, отраженными на графике 11.1 (которые мы обозначили как «налоговый оборот» и «экономический оборот»), что дает уверенность в надежности скорректированных таким образом исторических фактов. С другой стороны, это даст нам возможность лучше выявить и проанализировать различные силы, оказывавшие влияние на эти процессы[363].
В целом аннуитет наследства в данной стране можно рассчитать двумя способами. Можно либо исходить непосредственно из наблюдаемого оборота наследства и дарений (например, на основе налоговых данных: здесь мы это называем налоговым оборотом), либо на основе объема частного капитала подсчитать теоретический оборот передачи наследства, который с точки зрения логики имел место в течение данного года (здесь мы это называем экономическим оборотом). У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Первый из них более прямой, однако во многих странах налоговые данные слишком неполны для того, чтобы добиться с его помощью удовлетворительных результатов. Во Франции, как мы отмечали в предыдущей главе, система регистрации наследства и дарений была создана очень рано (она восходит ко временам Революции) и имеет очень широкий охват (она охватывает все случаи передачи имущества, в том числе и те, налоги с которых невелики или вообще отсутствуют, хотя есть исключения), благодаря чему налоговый метод здесь применим. Тем не менее налоговые данные необходимо корректировать для того, чтобы учесть некоторые небольшие переходы имущества, ускользающие от обязательного декларирования (и имеющие относительно небольшое значение), и рассчитать объем передачи имущества в виде активов, освобожденных от уплаты пошлины на наследство, таких как договоры о страховании жизни, которые получили широкое распространение в 1970-1980-е годы (и на которые сегодня приходится около шестой части от всего объема частного имущества во Франции).
Второй метод, или «экономический оборот», обладает тем преимуществом, что основывается на неналоговых данных, а значит, дает более полное представление о передаче имущества и не зависит от превратностей налогообложения и от стратегий уклонения от налогов в разных странах. Идеальное решение заключается в том, чтобы применять оба метода для изучения ситуации в конкретной стране. Более того, расхождение между двумя процессами, указанными на графике 11.1 (можно отметить, что экономический оборот всегда немного выше налогового), можно расценивать как оценку масштабов уклонения от налогов или недостатков системы регистрации перехода имущества. Это расхождение может быть обусловлено и другими причинами, в первую очередь дефектами различных имеющихся данных и используемого метода. В определенные периоды расхождение оказывается весьма значительным. Тем не менее долгосрочные процессы, которые нас интересуют в первую очередь в рамках данного исследования, полностью согласуются с обоими методами.
Три силы: иллюзия конца наследства. Главное преимущество подхода, основанного на экономическом обороте, заключается в том, что он дает целостное представление о трех силах, которые предопределяют оборот наследства и его эволюцию во всех странах.
В целом ежегодный экономический оборот наследства и дарений в пропорции к национальному доходу, который мы будем обозначать bу, является произведением действия трех сил:
by = ? ? m ? ?
где ? — это соотношение между капиталом и доходом (или, вернее, соотношение между всем частным имуществом — а только оно может передаваться по наследству, в отличие от государственных активов, — и национальным доходом), m— это уровень смертности, а ? —это соотношение между средним размером имущества на момент смерти и средним имуществом живых.
Такое разложение является чисто бухгалтерским уравнением: оно по определению справедливо всегда, в любое время и в любом месте. Именно так мы рассчитали экономический оборот, показанный на графике 11.1. В разложении на три силы есть некоторая тавтология, однако, на мой взгляд, эта тавтология полезна, поскольку позволяет внести ясность в исследование вопроса, который хотя и не пугает своей логической сложностью, но все же породил большую путаницу в прошлом.
Исследуем все три силы по порядку. Первая из них — это соотношение между капиталом и доходом ?. Эта сила отражает очевидный факт: для того чтобы оборот наследственного имущества в данном обществе был высоким, общий объем частного богатства, которое может быть передано другому лицу, должен быть значительным.
Вторая сила, уровень смертности т, представляет собой столь же очевидный механизм. При прочих равных оборот наследства оказывается тем больше, чем выше уровень смертности. В обществе, где все жили бы вечно и где уровень смертности строго равнялся бы нулю, наследство исчезло бы; оборот наследства bу также был бы равен нулю, вне зависимости от объема частного капитала ?.
Третья сила — соотношение ? между средним уровнем богатства на момент смерти и средним уровнем богатства живых — также совершенно прозрачна[364].
Предположим, что размер среднего имущества умерших такой же, как и у всего населения в целом. В этом случае ? = 1, а оборот наследства равен уровню смертности m, помноженному на соотношение между капиталом и доходом ?. Например, если соотношение между капиталом и доходом ? составляет 600 % (объем частного имущества достигает шести лет национального дохода), а уровень смертности взрослого населения составляет 2 % в год[365], то ежегодный оборот имущества автоматически будет равняться 12 % национального дохода.
Если имущество умерших в среднем в два раза больше, чем имущество живых, т. е. если ? = 2, то ежегодный оборот наследства автоматически будет равен 24 % национального дохода (опять-таки при ? = 6 и m = 2 %), т. е. будет находиться на том же уровне, что и в XIX и начале XX века.
Как видно, соотношение ? зависит от возраста собственников имущества. Чем больше повышается средний показатель имущества с увеличением возраста, тем выше становится соотношение ? и тем больше оказывается оборот наследства.
Напротив, если представить общество, где главная функция имущества заключается в обеспечении человека в пенсионном возрасте и где пожилые люди предпочитают потреблять на пенсии капитал, накопленный в течение активной жизни (например, посредством ежегодной ренты или «аннуитетов», выплачиваемых им пенсионными фондами или получаемых с отложенного на пенсию капитала и прекращающихся с их смертью), в соответствии с чистой теорией «богатства жизненного цикла» (life-cycle wealth), разработанной в 1950-1960-е годы итало-американским экономистом Франко Модильяни, то соотношение ? будет равно нулю, поскольку каждый решает умереть без капитала или по крайней мере оставив очень скромный капитал. В этом крайнем случае при)? = 0 наследство полностью исчезнет вне зависимости от значений показателей ? и т. С чисто логической точки зрения можно представить себе мир, в котором частный капитал достигает значительных размеров (показатель ? очень высок), однако наследство в основном принимает форму пенсионных фондов — или подобную форму богатства, перестающую существовать после смерти человека (annuitized wealth по-английски, «пожизненный доход» по-французски), в результате чего оборот наследства будет равен нулю или его показатель будет очень невелик. Теория Модильяни предлагает смягченную и одномерную картину социального неравенства, в которой неравенство в капитале представляет собой лишь перенесение во времени неравенства в труде (менеджеры накапливают больше резервов к пенсии, чем рабочие, однако и те и другие все равно потребят свой капитал к моменту смерти). Эта теория пользовалась большим успехом в течение Славного тридцатилетия, когда американская функционалистская социология, прежде всего в лице Толкотта Парсонса, говорила о мире среднего класса, в котором наследство практически полностью исчезнет[366]. Среди поколения бэби-бума она и по сей день очень популярна.
Разложение оборота наследства на три силы (bу = ? ? m ? ?) важно еще и для рассмотрения наследства и его эволюции в историческом ключе, поскольку каждая из этих сил воплощает целый комплекс вполне обоснованных представлений и рассуждений, исходя из которых в послевоенные десятилетия, исполненные оптимизма, многие считали, что конец наследства или, по крайней мере, постепенное уменьшение его значения было логическим и естественным результатом исторического процесса. Однако, как мы увидим, это постепенное исчезновение вовсе не является необратимым, как ясно показывает опыт Франции, а отражающая его U-образная кривая на самом деле представляет собой результат сочетания трех U-образных кривых, по которым движутся силы ?, т и ?. Кроме того, именно слияние этих трех сил воедино, произошедшее отчасти случайно, объясняет значительные масштабы общей эволюции и прежде всего чрезвычайно низкий уровень, которого оборот наследства достиг в 1950-1960-е годы и который породил представления об исчезновении наследства.
Во второй части книги мы подробно исследовали U-образную кривую, по которой менялось соотношение между капиталом и доходом ? в целом. Оптимистические представления, связанные с этой силой, ясны и на первый взгляд полностью оправданы: в ходе истории наследство постепенно утрачивало свое значение просто потому, что утрачивало значение само имущество (или, точнее, не человеческое имущество, которым можно в полной мере владеть, обмениваться на рынке и передавать на основе права собственности). Эти оптимистические представления, совершенно оправданные с точки зрения логики, пропитывают всю современную теорию человеческого капитала (и в первую очередь работы Гэри Беккера), хотя она так и не была четко сформулирована[367]. Однако, как мы видели, ситуация развивалась иначе и приняла совершенно иные масштабы, чем это себе иногда представляют. Капитал, прежде бывший земельным, стал недвижимым, промышленным и финансовым, однако нисколько не потерял своей значимости, о чем свидетельствует тот факт, что в начале XXI веке соотношение между капиталом и доходом вернулось к исторически рекордному уровню, характерному для Прекрасной эпохи и для предшествующих веков.
По причинам, которые отчасти можно считать технологическими, капитал сегодня по-прежнему играет центральную роль в производственных процессах, а значит, и в общественной жизни. В наши дни, как и раньше, прежде чем начать производство, нужно выделить средства на оплату служебных помещений или оборудования, на осуществление различных материальных и нематериальных инвестиций и, разумеется, на оплату жилья. Прогресс человеческой квалификации и навыков в истории, безусловно, был очень значительным. Однако масштабы прогресса не человеческого капитала были сопоставимы, а значит, нет очевидных поводов, которые давали бы нам возможность надеяться на то, что наследство постепенно утратит свою роль.
Смертность в долгосрочном плане. Второй силой, которая могла бы предопределить естественный конец наследства, является увеличение продолжительности жизни за счет снижения уровня смертности т и перенесения во времени момента передачи наследства (его стали получать так поздно, что оно уже не имеет значения). Действительно, в долгосрочной перспективе сокращение уровня смертности представляет собой очевидный факт: в пропорции ко всему населению в обществе, где продолжительность жизни достигает 80 лет, умирают реже, чем в обществе, где она составляет 60 лет. При прочих равных, особенно при неизменных значениях ? и ?, в обществе, в котором умирают реже в пропорции ко всему населению, общий объем наследства оказывается меньшим в соотношении с национальным доходом. Во Франции, как, впрочем, и во всех прочих странах, уровень смертности неуклонно снижался в ходе истории: он достигал 2,2 % среди взрослого населения в XIX веке и планомерно снижался на протяжении всего XX века[368], в результате чего в 2000-2010-е годы он составлял 1,1–1,2 %, т. е. в течение столетия упал почти вдвое (см. график 11.2).
График 11.2
Уровень смертности во Франции в 1820–2100 годах.
ордината: Уровень смертности взрослого населения(в %).
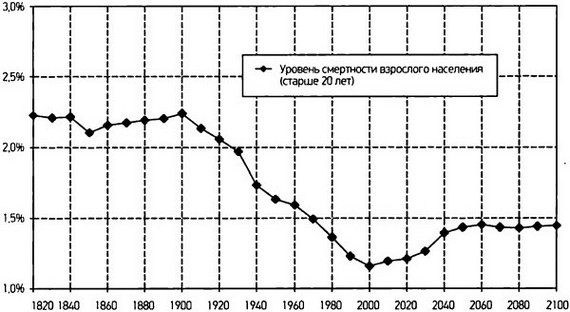
Примечание. Уровень смертности во Франции упал в течение XX века (за счет увеличения продолжительности жизни) и должен немного вырасти в XXI веке (последствия бэби-бума).
Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
Однако было бы серьезной логической ошибкой считать, что эта сила неизбежно приводит к постепенному исчезновению наследства. Прежде всего следует сказать, что во Франции в 2000-2010-е годы уровень смертности стал повышаться, и, согласно официальным демографическим прогнозам, это повышение будет продолжаться до 2040-2050-х годов, после чего смертность среди взрослых должна стабилизироваться на уровне 1,4–1,5 %. Этот факт обусловлен тем, что наступило время, когда стали умирать представители поколения бэби-бума, более многочисленного, чем предшествующие поколения (но более или менее такого же по численности, как последующие[369]). Иными словами, бэби-бум и структурное повышение размеров поколений, к которому привел этот феномен во Франции, повлекли за собой временное, но очень сильное снижение смертности по той простой причине, что население выросло и стало более молодым. Прелесть французской демографии состоит в том, что она очень проста и позволяет ясно продемонстрировать основные последствия этого явления. В XIX веке население было практически неизменным, а продолжительность жизни составляла около 60 лет, т. е. продолжительность взрослой жизни едва превышала 40 лет: это означает, что уровень смертности был близок к 1/40, а именно составлял 2,2 %. В XXI веке, согласно официальным прогнозам, численность населения снова стабилизируется, продолжительность жизни достигнет 85 лет, а продолжительность взрослой жизни — 65 лет. Это означает, что уровень смертности при неизменной численности населения составит около 1/65, а именно 1,4–1,5 %, если учитывать небольшой демографический рост. В долгосрочном плане в такой развитой стране с практически не растущим населением, как Франция (где рост населения обеспечивается в основном за счет старения), снижение уровня взрослой смертности составляет около трети.
Повышение уровня смертности в период между 2000-2010-ми и 2040-2050-ми годами, обусловленное тем, что относительно многочисленное поколение бэби-бума достигнет возраста смерти, безусловно, носит чисто автоматический характер, однако имеет важное значение. Отчасти именно этим объясняется, почему оборот наследства находился на относительно низком уровне во второй половине XX века и почему его повышение в ближайшие десятилетия будет существенным. С этой точки зрения Франция не является страной, в которой этот феномен приобретет наиболее массовые масштабы. В тех европейских странах, где население стало существенно снижаться или где этот процесс скоро начнется, особенно в Германии, Италии и Испании, а также в Японии, этот феномен в первой половине XXI века приведет к намного более значительному росту уровня смертности среди взрослых, чем во Франции, и автоматически повлечет за собой сильное увеличение объемов имущества, передаваемого по наследству. Старение населения смещает смерть во времени, но не устраняет ее: лишь сильное и постоянное увеличение численности поколений обеспечивает длительное сокращение уровня смертности и значения наследства. Однако если старение сопровождается стабилизацией численности поколений, как это происходит во Франции, или даже снижением их численности, как это происходит во многих богатых странах, то создаются все условия для того, чтобы оборот наследства достиг очень высокого уровня. В экстремальном случае страны, где численность возрастных групп сокращается вдвое с каждым поколением (потому что каждая пара решает иметь только одного ребенка), уровень смертности, а значит, и оборот наследства может вырасти до невиданных прежде размеров. Напротив, в стране, где численность возрастных групп с каждым поколением возрастает в два раза, как это было в различных частях света в XX веке и как это происходит и сейчас, например в Африке, уровень смертности падает до очень низкого уровня и наследство имеет мало значения — при прочих равных, разумеется.
Богатство стареет вместе с населением: эффект ? ? m. Теперь мы оставим в стороне эти последствия, которые хоть и важны, но носят временный характер — если, конечно, не принимать в расчет, что население Земли будет бесконечно большим или бесконечно малым на протяжении длительного времени, — и связаны с колебанием численности поколений, и перейдем к очень долгосрочной перспективе, в рамках которой численность поколений чисто гипотетически должна оставаться стабильной. Как увеличение продолжительности жизни на самом деле влияет на значение наследства в том или ином обществе? Конечно, рост продолжительности жизни сокращает уровень смертности. Во Франции, где в XXI веке люди будут умирать в среднем в возрасте 80–85 лет, смертность среди взрослого населения стабилизируется на уровне 1,5 % в год, тогда как в XIX веке, когда умирали в среднем в 60 лет, она составляла 2,2 %. Увеличение среднего возраста смерти автоматически привело к повышению среднего возраста получения наследства. В XIX веке наследство получали в среднем в возрасте 80 лет; в XXI веке его будут чаще получать ближе к 50 годам. Как следует из графика 11.3, расхождение между средним возрастом смерти и возрастом получения наследства по-прежнему составляет около 30 лет по той простой причине, что средний возраст, когда родители заводят детей, — часто это называют «длительностью поколений» — в долгосрочной перспективе установился на уровне 30 лет (впрочем, в начале XXI века отмечается небольшое его увеличение).
График 11.3
Средний возраст смерти и получения наследства во Франции в 1820–2100 годах.
ордината: Средний возраст в годах.
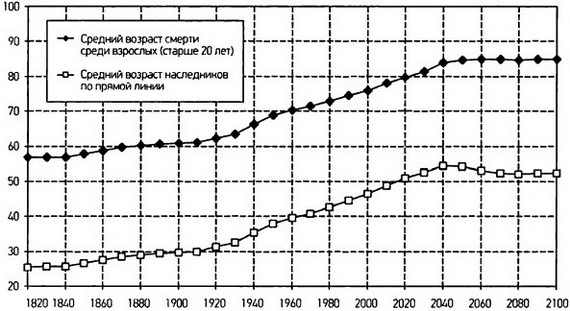
Примечание. В течение XX вена средний возраст смерти увеличился с 60 до 80 лет, а средний возраст получения наследства — с 30 до 50 лет. Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
Однако если люди умирают и получают наследство позже, то означает ли это, что наследство утрачивает свое значение? Необязательно: во-первых, потому, что увеличение числа дарений отчасти компенсировало этот эффект, как мы увидим ниже; во-вторых, потому, что хотя наследство теперь получают позже, речь идет о более крупных суммах, поскольку в стареющем обществе имущество также обнаруживает тенденцию к старению. Иными словами, необратимая в долгосрочной перспективе тенденция к снижению уровня смертности может компенсироваться носящим столь же структурный характер увеличением относительного богатства пожилых людей, в результате чего произведение показателей ? ? т остается неизменным или, по крайней мере, снижается намного меньше, чем можно было бы себе представить. Именно это и произошло во Франции: соотношение ? между средним размером имущества к моменту смерти и средним размером имущества живых сильно выросло с 1950-1960-х годов, а постепенное старение состояний в значительной степени объясняет феномен возвращения наследства, который можно наблюдать в последние десятилетия.
Мы можем констатировать, что произведение ? ? т, которое по определению измеряет ежегодный объем передаваемого имущества (т. е. оборот наследства, выраженный в процентах ко всему частному имуществу), стало отчетливо повышаться в течение последних десятилетий, несмотря на постоянное снижение уровня смертности, как ясно показывает график 11.4. Ежегодный объем передаваемого имущества, который экономисты XIX и начала XX века называли «уровнем деволюции наследства», оставался относительно стабильным с 1820-х по 1910-е годы и составлял 3,3–3,5 %, т. е. около 1/30. В те времена бытовало обыкновение говорить, что наследство передается в среднем один раз в 30 лет, т. е. один раз за поколение. Такое видение тогдашних реалий было упрощенным и несколько статичным, однако отчасти оправданным[370]. В период с 1910 по 1950 год ежегодный объем передаваемого имущества снизился до 2 %, а затем стал планомерно повышаться и в 2000-2010-е годы превысил 2,5 %.
Если обобщить вышесказанное, то можно отметить, что в стареющем обществе, конечно, наследство получают все позже и позже, однако это, в свою очередь, компенсируется старением богатства. В этом смысле общество, где умирают все позже, сильно отличается от общества, где не умирают вовсе и где наследство просто исчезает. Увеличение продолжительности жизни несколько смещает все события человеческой жизни: люди дольше учатся, позже начинают работать, позже получают наследство, отправляются на пенсию и умирают, однако вовсе не обязательно меняет относительное значение наследства и трудовых доходов или, по крайней мере, меняет намного меньше, чем это иногда представляют. Тот факт, что теперь наследство достается позже, разумеется, заставляет наследника выбирать себе профессию чаще, чем прежде. Однако это компенсируется более значительным объемом наследственного состояния, тем более что оно может принимать форму дарения, совершаемого раньше. В любом случае речь скорее идет о разнице в степени, чем о цивилизационном переломе, как это иногда изображают.
График 11 .4
Оборот наследства и уровень смертности во Франции в 1820–2010 годах.
ордината: Объем передаваемого имущества и уровень смертности.
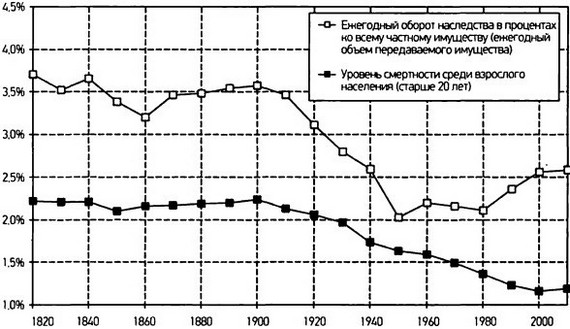
Примечание. В течение XX века средний возраст смерти увеличился с 60 до 80 лет. а средний возраст получения наследства — с 30 до 50 лет.
Источники: piketty.pse.ens.fr/capilal21 с.
Богатство мертвых, богатство живых. Есть смысл подробнее исследовать историческую эволюцию соотношения ? между средним богатством покойных и живых, которую мы отразили на графике 11.5. Прежде всего можно отметить, что во Франции в течение последних двух столетий, т. е. с 1820-х до 2010-х годов, покойные всегда были — в среднем — богаче, чем живые. Соотношение ? всегда было выше 100 %, и, как правило, намного превышало 100 %, за исключением послевоенного периода, т. е. 1940-1950-х годов, когда соотношение, рассчитанное без учета дарений, совершенных до смерти, было чуть ниже 100 %. Напомним, что, согласно теории жизненного цикла, столь дорогой сердцу Модильяни, имущество должно накапливаться прежде всего для пенсии, особенно в стареющих обществах, в результате чего пожилые люди должны были бы потреблять основную долю своих запасов на исходе лет и умирать, имея лишь немного имущества или не имея его вовсе. Так выглядит знаменитый «треугольник Модильяни», который преподают всем студентам-экономистам и согласно которому с возрастом имущество каждого человека сначала увеличивается по мере того, как он откладывает средства в течение активной жизни. Это означает, что соотношение (и должно равняться 0 % или быть очень невысоким, — в любом случае оно должно быть ниже 100 %. Меньшее, что можно сказать, это то, что данная теория капитала и его эволюции в развитых обществах, изначально кажущаяся достоверной (чем больше общество стареет, тем больше население накапливает для последних лет своей жизни и тем больше людей умирает, имея небольшое имущество), не дает удовлетворительного объяснения наблюдаемым фактам. Очевидно, что сбережения, откладываемые на пенсию, являются лишь одной из причин, причем не самой важной, по которой люди накапливают имущество: желание сохранить и передать семейный капитал всегда играло ключевую роль.
На практике во Франции различные формы пожизненного дохода (annuitized wealth), которые нельзя передать потомкам, составляют менее 5 % частного имущества. Эта доля повышается максимум до 15–20 % в англосаксонских странах, где пенсионные фонды более развиты, что является существенным показателем, однако недостаточным для радикального изменения наследственной функции имущества (тем более что ничто не указывает на то, что богатство жизненного цикла заменяет передаваемое богатство: оно вполне может к нему прибавляться; мы к этому вернемся[371]). Конечно, очень сложно сказать, как изменилась бы структура имущественного накопления в течение XX века, если бы не возникли государственные распределительные пенсионные системы, которые позволили обеспечить удовлетворительный уровень жизни подавляющему большинству пенсионеров и оказались намного более надежными и эгалитарными, чем финансовые сбережения, сгоревшие в результате войн. Вероятно, в отсутствие этих систем общий уровень имущественного накопления (выраженный соотношением между капиталом и доходом) в начале XXI века достиг бы еще более высокого уровня[372]. Однако в действительности сегодня соотношение между капиталом и доходом находится примерно на том же уровне, что и в Прекрасную эпоху (когда потребность в накоплении средств на пенсию была намного более ограниченной, учитывая тогдашнюю продолжительность жизни), а доля пожизненного дохода в общем имуществе лишь ненамного превышает уровень столетней давности.
График 11.5
Соотношение между средним имуществом на момент смерти и средним имуществом живых во Франции в 1820–2010 годах.
ордината: Соотношение между средним имуществом умерших и живых.
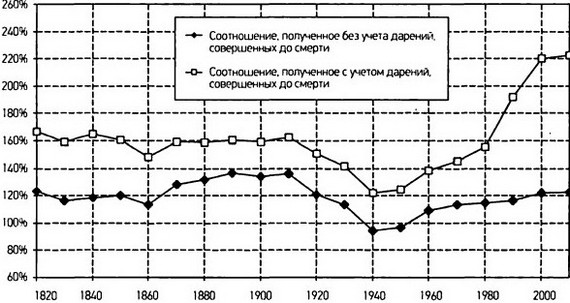
Примечание. В 2000-2010-е годы средний объем имущества умерших на 20 % выше, чем средний размер имущества живых, без учета дарений, совершенных до смерти, и в два раза выше, если их учитывать. Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
Также можно отметить значение, которое имели дарения на протяжении двух последних столетий, и их впечатляющий взлет в течение последних десятилетий. Общая стоимость ежегодно совершаемых дарений составляла около 30–40 % от стоимости наследства в 1820-1860-е годы (в ту эпоху они зачастую принимали форму приданого, т. е. дарения, которое получали супруги во время свадьбы и использование которого часто было ограничено, что прописывалось в брачном контракте). В периоде 1870-х до 1960-х годов стоимость дарений немного сократилась и стабилизировалась на уровне 20–30 % от объема наследства, после чего начала заметно повышаться и достигла 40 % в 1980-е годы, 60 % в 1990-е годы и более 80 % в 2000-2010-е годы. В начале XXI века капитал, передаваемый в качестве дарения, почти сравнялся по объему с наследством. На дарения приходится около половины современного оборота наследства, а значит, очень важно их учитывать. Если бы мы не стали принимать во внимание дарения, совершенные до смерти, то оказалось бы, что в 2000-2010-е годы среднее имущество на момент смерти всего на 20 % больше, чем среднее имущество живых. Однако это лишь следствие того факта, что покойные уже передали около половины своих активов. Если включить в имущество покойных дарения, совершенные до их смерти, то скорректированное таким образом соотношение ? превзойдет 220 %: их скорректированное имущество более чем в два раза выше, чем имущество живых. Мы имеем дело с настоящим золотым веком дарений, который носит еще более масштабный характер, чем в девятнадцатом столетии.
Интересно отметить, что дарения и сегодня, и в XIX веке в массе своей совершаются в пользу детей, часто в виде вложений в недвижимость, и осуществляются в среднем за 10 лет до смерти дарителя (это расхождение также относительно устойчиво во времени). Таким образом, растущее значение дарений начиная с 1970-1980-х годов позволяет несколько снизить средний возраст получателя. В 2000-2010-е годы средний возраст получения наследства приближается к 45–50 годам, тогда как средний возраст получения дарений составляет примерно 35–40 лет, вследствие чего расхождение с ситуацией, имевшей место в XIX и начале XX века, не столь значительно, как следует из графика 11.3[373]. Самое убедительное объяснение этого постепенного взлета дарений, начавшегося в 1970-1980-е годы, задолго до введения налоговых стимулов (которые относятся к 1990-2000-м годам), заключается в том, что родители, располагающие средствами, постепенно осознали, что ввиду увеличения продолжительности жизни будет разумнее обеспечить своим детям доступ к наследству в возрасте 35–40 лет, а не в 45–50 или даже еще позже. В любом случае, каким бы ни было точное значение различных возможных объяснений, факт заключается в том, что новый золотой век дарений, который мы можем обнаружить и в других европейских странах, прежде всего в Германии, является одной из ключевых составляющих возвращения наследства.
Пятидесятилетние и восьмидесятилетние: возраст и богатство в Прекрасную эпоху. Чтобы лучше понять динамику накопления имущества и подробные данные, которые мы привлекли для расчета коэффициента (и, будет полезно исследовать эволюцию среднего размера имущества в зависимости от возраста. В таблице 11.1 мы указали возрастные группы для некоторых лет в период с 1820 по 2010 год[374]. Поразительнее всего в этой таблице выглядит старение богатства на протяжении всего XIX века по мере того, как возрастала имущественная концентрация. В 1820 году пожилые люди в среднем были лишь немного богаче пятидесятилетних (которых мы выбрали в качестве референтной группы): шестидесятилетние были богаче на 34 %, а восьмидесятилетние — на 53 %. Однако затем это расхождение постоянно увеличивалось. В 1900-1910-е годы среднее имущество, принадлежавшее шестидесяти- и семидесятилетним, было примерно на 60–80 % больше, чем имущество пятидесятилетних, а восьмидесятилетние были богаче в два с половиной раза. Добавим, что речь идет о среднем показателе для всей Франции. Если ограничиться только Парижем, где были сосредоточены самые крупные состояния, то контраст окажется еще более резким. Накануне Первой мировой войны парижские состояния все больше старели: семидесяти- и восьмидесятилетние были богаче пятидесятилетних в среднем в три раза и даже более чем в четыре раза[375]. Разумеется, большинство пожилых людей умирало, не имея никакого имущества, а отсутствие пенсионной системы лишь усугубляло бедность стариков. Однако в рамках имущего меньшинства старение богатства просто поражает (здесь поневоле вспоминается пожилая дама из «Котов-аристократов»). Очевидно, что впечатляющее обогащение восьмидесятилетних не было обусловлено трудовыми доходами или предпринимательской деятельностью: трудно поверить в то, что они каждое утро начинали с создания очередного стартапа.
Таблица 11.1 Имущественные группы по возрасту во Франции в 1820–2010 годах Средний размер имущества возрастной группы (в % к среднему имуществу группы 50–59 лет) 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70-79 лет 80 лет и старше 1820 29% 37% 47% 100% 134% 148% 153% 1850 28% 37% 52% 100% 128% 144% 142% 1880 30% 39% 61% 100% 148% 166% 220% 1902 26% 57% 65% 100% 172% 176% 238% 1912 23% 54% 72% 100% 158% 178% 257% 1931 22% 59% 77% 100% 123% 137% 143% 1947 23% 52% 77% 100% 99% 76% 62% 1960 28% 52% 74% 100% 110% 101% 87% 1984 19% 55% 83% 100% 118% 113% 105% 2000 19% 46% 66% 100% 122% 121% 118% 2010 25% 42% 74% 100% 111% 106% 134%Примечание. В 1820 году среднее имущество людей в возрасте от 60 до 69 лет было на 34 % больше, чем имущество людей в возрасте от 50 до 59 лет, а имущество людей старше 80 лет было больше на 53 %. Источники см. в: piketty.pse.ens.fr/capital21c.
Этот факт поразителен, с одной стороны, тем, что объясняет высокий уровень соотношения ? между средним имуществом на момент смерти и имуществом живых в Прекрасную эпоху (а значит, и масштаб оборота наследства), а с другой стороны, тем, что он дает нам довольно точное представление об экономическом процессе. Индивидуальные данные, которыми мы располагаем, в этом отношении совершенно ясны: очень сильный рост состояния в пожилом возрасте, который наблюдался на рубеже XIX–XX веков, был автоматическим следствием неравенства, выраженного формулой r > g, и объяснялся вытекающей из него кумулятивной и мультипликативной логикой. Так, пожилые люди, владевшие самыми крупными состояниями, часто располагали такими высокими доходами с капитала, которые превышали уровень, необходимый для поддержания их уровня жизни. Предположим, что они получали доходность в 5 %, потребляли две пятых и вновь вкладывали три пятых. В этом случае их имущество росло на 3 % в год, и к 85 годам они становились более чем в два раза богаче, чем были в 60 лет. Речь идет о простом, но очень мощном механизме, который отлично объясняет наблюдаемые факты, однако нужно учитывать, что владельцы самых крупных состояний могли сберегать намного больше трех пятых от полученной доходности (что усиливало процесс расхождения в размерах имущества в пожилом возрасте) и что общий рост среднего дохода и среднего имущества не был строго равен нулю (он составлял около 1 % год, что слегка смягчает этот процесс).
Исследование динамики накопления и концентрации имущества во Франции и особенно в Париже в период с 1870 по 1914 год поучительно для наших дней и для будущего. Имеющиеся данные чрезвычайно подробный надежны и позволяют нам четко ее проследить; кроме того, этот период стал временем первой торговой и финансовой глобализации. Ее отличительными чертами стали современные диверсифицированные рынки капитала и сложные портфели, которые состояли из различных видов инвестиций с непостоянным доходом, осуществляемых во Франции и за рубежом, в государственные и частные ценные бумаги. Конечно, экономический рост составлял всего 1–1,5 % в год, однако, как мы уже видели, на самом деле эти темны довольно существенны, если рассматривать их в масштабах поколений или в очень долгосрочной исторической перспективе. Речь ни в коей мере не идет о статичном обществе, основанном на земельном капитале. В эти времена появилось множество технических и промышленных новинок — автомобили, электричество, кинематограф и т. д., многие из которых были изобретены во Франции, по крайней мере отчасти. В период с 1870 по 1914 год далеко не все французские состояния, принадлежавшие пятидесяти- или шестидесятилетним, были наследственными: напротив, значительная часть промышленных и финансовых состояний были накоплены благодаря предпринимательской деятельности.
Тем не менее преобладающая динамика, которой в конечном итоге и обуславливается имущественная концентрация, автоматически проистекает из неравенства, выраженного формулой r > g. Вне зависимости от того, унаследовали свое состояние пятидесяти- и шестидесятилетние или заработали его сами, выше определенного предела капитал обнаруживает тенденцию к самовоспроизводству и к безграничному накоплению. Логика r > g подразумевает, что предприниматель всегда склонен превращаться в рантье: либо несколько позже (эта проблема становится ключевой по мере того, как растет продолжительность жизни: если хорошие идеи приходят человеку в 30 или 40 лет, это не означает, что они будут ему приходить и в 70, и в 80 лет, однако зачастую имущество продолжает расти само по себе), либо в течение следующего поколения. Каким бы предпринимательским динамизмом и изобретательностью в области промышленности ни обладала французская экономическая элита XIX века и Прекрасной эпохи, ключевой факт заключается в том, что их усилия и действия привели лишь к укреплению и увековечиванию общества рантье: в значительной степени это произошло без их ведома и стало следствием логики r > g.
Омоложение состояний в результате войн. Этот самоподдерживающийся механизм рухнул вследствие жестоких потрясений, выпавших на долю капиталов, доходов с них и их владельцев в течение 1914–1945 годов. Войны привели к сильному омоложению состояний. Это отчетливо видно на графике 11.5: в 1940-1950-е годы в первый — и, на сегодняшний день, единственный — раз средний размер имущества на момент смерти оказался ниже имущества живых. Это обнаруживается еще яснее, когда мы подробно исследуем возрастные группы (см. таблицу 11.1). В 1912 году, накануне Первой мировой войны, восьмидесятилетние были в два с половиной раза богаче пятидесятилетних. В 1931 году они были богаче всего на 40 %. А в 1947 году состоятельнее были пятидесятилетние: в обществе, где имущество в целом действительно сократилось до очень низкого уровня, пятидесятилетние стали богаче восьмидесятилетних на 50 %. Еще оскорбительнее для последних было то, что в 1947 году они уступали по объему имущества даже сорокалетним: это была эпоха, когда все прежние истины были поставлены под сомнение. После окончания Второй мировой войны возрастные группы по имуществу расположились по U-образной кривой (сначала растущей, затем убывающей по мере увеличения возраста, причем в верхней точке оказалась группа в возрасте от 50 до 59 лет; эта кривая была очень похожа на «треугольник Модильяни», с той существенной разницей, что она не опускалась до нуля в самых старших возрастных группах), тогда как в XIX веке и накануне Первой мировой войны кривая непрерывно возрастала.
Впечатляющее омоложение состояний объясняется просто. Как мы видели во второй части книги, многочисленные потрясения 1914–1945 годов — инфляция, разрушения, банкротства, экспроприации и т. д. — затронули все состояния, в результате чего соотношение между капиталом и доходом сильно уменьшилось. Можно было бы подумать, что эти потрясения затронули все состояния в равной степени, а значит, распределение имущества по возрастным группам осталось неизменным. Однако разница состояла в том, что молодым поколениям, которым было особо нечего терять, было проще оправиться от этих потрясений, чем пожилым. У того, кому в 1940 году было 60 лет и кто потерял все свое имущество во время бомбежки, или из-за банкротства, или же в результате экспроприации, было мало шансов восстановить утраченное: скорее всего он умер в 1950-1960-е годы, в возрасте 70 или 80 лет, не имея практически ничего, что можно было бы передать. Напротив, человек, которому в 1940 году было 30 лет и который потерял всю свою собственность, чья стоимость наверняка была невелика, после войны располагал достаточным временем для накопления имущества, и к 1950-1960-м годам он вполне мог быть богаче в свои 40 лет, чем наш семидесятилетний старик. Война вернула в нулевое — или почти нулевое — положение счетчики имущественного накопления и автоматически привела к сильному омоложению состояний. В этом смысле в XX веке именно войны уничтожили прошлое и создали иллюзию структурного преодоления капитализма.
Это ключевое объяснение причин, по которым в послевоенные десятилетия оборот наследства опустился до чрезвычайно низкого уровня. Тем, кто должен был получить наследство в 1950-1960-е годы, доставалось не так много, потому что у их родителей не было достаточно времени, чтобы оправиться от потрясений предшествующих десятилетий, и они умирали, оставляя совсем немного имущества.
Это позволяет понять прежде всего то, почему обвал оборота наследства оказался еще более масштабным, чем обвал стоимости имущества, превзойдя его в два раза. Как мы видели во второй части книги, общий объем частного имущества уменьшился более чем в три раза в период с 1910-х по 1950-е годы: объем частного капитала сократился с семи лет национального дохода до всего двух-двух с половиной лет (см. третью главу, график 3.6). Что же касается ежегодного оборота наследства, то он сократился в шесть раз — с 25 % национального дохода накануне Первой мировой войны до всего 4–5 % национального дохода в 1950-е годы (см. график 11.1).
Однако ключевой факт состоит в том, что эта ситуация длится не так долго. «Капитализм восстановления» был лишь временным этапом, а не структурным преодолением, каким его иногда изображали. В 1950-1960-е годы по мере того, как капитал снова стал накапливаться, а соотношение между капиталом и доходом ? начало расти, состояния вновь стали стареть, вследствие чего соотношение ? между средним имуществом на момент смерти и имуществом живых также увеличилось. Возвращение имущества происходило наряду с его старением и подготавливало еще более мощное возвращение наследства. В 1960 году ситуация 1947 года была не более чем воспоминанием: шестидесятилетние и семидесятилетние ненамного превосходили пятидесятилетних (см. таблицу 11.1). В 1980-е годы настал час восьмидесятилетних. Их имущество постоянно росло в 1990-2000-е годы. В 2010 году среднее имущество восьмидесятилетних было на 30 % больше, чем имущество пятидесятилетних. Если включить в имущество различных групп дарения, совершенные до смерти (что не было сделано в таблице 11.1), то окажется, что имущество этой группы в 2000-2010-е годы росло намного быстрее: приблизительно в таких же пропорциях, что и в 1900-1910-е годы (среднее имущество группы от 70 до 79 лет и группы от 80 лет и старше вдвое превышает имущество группы от 50 до 59 лет), с той лишь разницей, что большая часть смертей сегодня происходит в более пожилом возрасте, вследствие чего соотношение ? оказывается заметно более высоким (см. график 11.5).
Как будет меняться оборот наследства в XXI веке? Учитывая сильный рост оборота наследства в течение последних десятилетий, вполне естественно задаться вопросом, продолжится ли этот рост в дальнейшем. На графике 11.6 мы отразили два возможных пути эволюции в XXI веке. Первый из них — это основной сценарий, предполагающий, что в 2010–2100 годах темпы роста составят 1,7 % в год[376], а доходность капитала будет равна 3 %[377]. Второй путь — это альтернативный сценарий, согласно которому в 2010–2100 годах рост будет составлять всего 1 % в год, а доходность капитала достигнет 5 %. Эти сценарии соответствуют ситуации, когда налоги на капитал и доходы с него, в том числе и на прибыль компаний, будут полностью упразднены или же их отменят частично, а доля капитала при этом продолжит расти.
График 11.6
Наблюдаемый и моделируемый оборот наследства во Франции в 1820–2010 годах.
ордината: Ежегодная стоимость наследств и дарований (в % к национальному доходу).

Примечание. Моделирование на основе теоретической модели помазывает, что в XXI веке оборот наследства будет зависеть от темпов роста и от очищенной от налогов доходности капитала. Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
В основном сценарии моделирование на основе теоретической модели (которое успешно применялось для исследования эволюции в период с 1820 по 2010 год) показывает, что оборот наследства будет расти до 2030-2040-х годов и затем стабилизируется на уровне 16–17 % национального дохода. Согласно альтернативному сценарию, оборот наследства будет увеличиваться до 2060-2070-х годов, достигнет 24–25 % национального дохода, т. е. того же уровня, что в 1870-1910-е годы, и затем стабилизируется. В одном случае возвращение наследства будет лишь частичным; в другом оно будет полным (по крайней мере в том, что касается объема наследства и дарений). Однако в обоих случаях оборот наследства и дарений в XXI веке будет очень высоким и намного превысит чрезвычайно низкий уровень, наблюдавшийся в середине XX века.
Разумеется, следует подчеркнуть, что такие прогнозы сопряжены с высокой степенью неопределенности и представляют интерес скорее с иллюстративной точки зрения. Эволюция оборота наследства в начинающемся столетии будет зависеть от множества экономических, демографических и политических параметров, которые, как показывает история минувшего века, могут приводить к масштабным и труднопредсказуемым поворотам. Можно представить и другие сценарии, которые приведут к иной эволюции, например в случае мощного ускорения демографического или экономического роста (что представляется маловероятным) или же в случае радикального изменения государственной политики по отношению к частному капиталу или к наследству (что, возможно, более реалистично)[378].
Подчеркнем также тот факт, что эволюция имущества по возрастным группам зависит прежде всего от сберегательного поведения, т. е. от причин, по которым люди накапливают имущество. Как мы уже неоднократно отмечали, эти причины многочисленны и очень разнообразны, и зачастую каждый человек руководствуется всеми ими, но в разной степени. Можно сберегать для того, чтобы накопить средства ко времени выхода на пенсию, или же на случай потери работы или зарплаты (сбережение жизненного цикла или из предосторожности), а можно скопить или сохранить семейный капитал, или можно накапливать средства просто из любви к богатству и из стремления к престижу, который оно иногда обеспечивает (династическое сбережение или чистое накопление). В принципе, можно представить себе мир, в котором каждый решал бы превратить все свое состояние в пожизненную ренту и умирал бы, не оставляя никакого имущества. Если такое поведение вдруг станет преобладающим в XXI веке, то оборот наследства, разумеется, сократится до минимума вне зависимости от темпов роста и доходности капитала.
Тем не менее оба сценария эволюции, представленные на графике 11.6, являются наиболее правдоподобными, если учитывать имеющуюся в настоящее время информацию. Так, мы предположили, что в 2010–2100 годах сохранится то же сберегательное поведение, что и в прошлом. Мы можем охарактеризовать его следующим образом. Помимо сильных различий в индивидуальном поведении[379], можно констатировать, что в среднем норма сбережений заметно выше, когда выше доход или начальный капитал[380], однако различия по возрастным группам намного менее значимы: в среднем в первом приближении люди в любом возрасте сберегают в сопоставимых пропорциях. Так, в пожилом возрасте не прослеживается массового снижения уровня сбережений, которое предсказывается теорией жизненного цикла, как бы ни менялась продолжительность жизни. Это, бесспорно, обусловлено той ролью, которую играет стремление передать имущество по наследству (на самом деле никому не хочется умирать, не имея никакого имущества, в том числе и в стареющих обществах), а также логикой чистого накопления и чувством безопасности — а не только жаждой престижа и власти, — которое обеспечивает имущество[381]. Очень сильная имущественная концентрация (на долю верхней децили всегда приходится как минимум 50–60 % общего имущества, в том числе и в каждой возрастной группе) является тем недостающим звеном, которое позволяет объяснить все эти факты в целом и которое упускает из виду теория Модильяни. Постепенное возвращение имущественного неравенства династического типа начиная с 1950-1960-х годов дает возможность понять, почему в пожилом возрасте уровень сбережений не снижается (основная часть имущества принадлежит людям, у которых есть средства на то, чтобы поддерживать свой уровень жизни, не продавая при этом своих активов). Наследство остается на высоком уровне и сохраняется новое равновесие, в рамках которого позитивная мобильность, конечно, наблюдается, но в ограниченных масштабах.
Ключевой момент заключается в том, что при определенной структуре сберегательного поведения этот кумулятивный процесс оказывается тем более быстрым и неравным, чем выше доходность капитала и ниже темпы роста. Очень сильный рост в течение Славного тридцатилетия обусловил относительно медленное повышение соотношения ? (между средним имуществом на момент смерти и имуществом живых) и оборота наследства в 1950-1970-е годы. Напротив, снижение роста объясняет ускорение старения состояний и возвращение наследства, наблюдаемое с 1980-х годов. В принципе, когда темпы роста высоки, например когда зарплаты растут на 5 % в год, молодым поколениям проще накапливать имущество и держаться наравне с теми, кто их старше. Если же рост зарплат снижается до 1–2 % в год[382], то над молодыми активами неизбежно начинает преобладать более возрастное имущество, которое увеличивается темпами, равными доходности капитала. Этот простой, но важный процесс прекрасно отражает эволюцию соотношения ? и ежегодного оборота наследства и объясняет, почему наблюдаемые и моделируемые данные так близки друг к другу на протяжении всего периода с 1820 по 2010 год[383].
Несмотря на всю неопределенность, вполне логично считать, что такое моделирование дает полезный инструмент для понимания будущего. С теоретической точки зрения можно показать, что, при различном сберегательном поведении и при небольших темпах роста по сравнению с доходностью капитала, повышение соотношения ? почти полностью компенсирует снижение уровня смертности т, вследствие чего произведение ? х m практически не зависит от продолжительности жизни и целиком определяется длительностью одного поколения. Главный результат заключается в том, что с этой точки зрения темпы роста в 1 % мало чем отличаются от роста, строго равного нулю: в обоих случаях предположение о том, что старение ведет к концу наследства, оказывается неверным. В стареющем обществе наследство получают позже, однако его размеры оказываются больше (по крайней мере для наследников), вследствие чего значение наследства в целом остается неизменным[384].
От ежегодного оборота наследства к объему наследственного имущества. Как перейти от ежегодного оборота наследства к объему наследственного имущества? Имеющиеся в нашем распоряжении подробные данные по обороту наследства и по возрасту покойных, наследников, дарителей и получателей дарений позволяет нам рассчитать общий объем имущества, наследовавшегося живыми людьми в каждый год в период с 1820 по 2010 год (речь идет прежде всего о сложении наследств и дарений, полученных в течение 30 предшествующих лет, иногда больше — в случае очень раннего получения наследства или необычайного долголетия — и меньше в обратных случаях) и определить тем самым долю наследства в общем объеме частного имущества. Основные результаты приведены на графике 11.7, на котором мы также отразили прогноз для периода с 2010 по 2100 год на основе двух сценариев, проанализированных выше.
График 11.7
Доля наследственного имущества в общем имуществе во Франции в 1850–2100 годах.
ордината: Общая стоимость наследственного имущества (в % к общему имуществу живых).
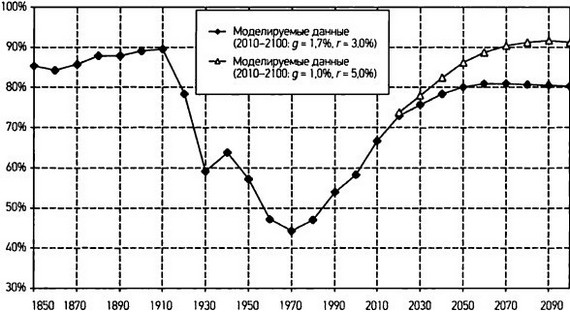
Примечание. Во Франции XIX века наследственное имущество составляло 80–90 % от общего имущества; его доля упала до 40–50 % в XX веке и может вновь вырасти до 80–90 % в двадцать первом столетии. Источники: piketty.pse.ens.fr/capjtal21 с.
Внимание следует обратить на следующие цифры. В XIX и в начале XX века, когда ежегодный оборот наследства достигал 20–25 % национального дохода, практически все частное имущество было наследственным — от 80 до 90 %, причем прослеживалась тенденция к повышению этого показателя. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что в таких обществах на всех имущественных уровнях есть довольно существенная часть собственников — от 10 до 20 %, которые накопили свои состояния с нуля. Эти общества не были неподвижными. Просто в подавляющем большинстве случаев имущество наследовалось. Это не должно удивлять: если ежегодный оборот наследства сохраняется на уровне 20 % национального имущества в течение примерно 30 лет, то это автоматически создает огромную массу наследств и дарений, которая составляет шесть лет национального дохода, а значит, представляет собой практически все имущество[385].
В XX веке вслед за обвалом оборота наследства этот баланс полностью изменился. Самая нижняя точка была достигнута в 1970-е годы: после того, как на протяжении нескольких десятилетий имущество находилось на низком уровне и накапливались новые состояния, наследственный капитал составлял чуть более 40 % частного капитала. Впервые в истории — если не учитывать новые страны — на состояния, накопленные людьми в течение их жизни, приходилась большая часть имущества — около 60 %. Важно осознавать две вещи: во-первых, природа капитала после войны действительно изменилась: во-вторых, сейчас этот необычный период завершается. Мы уже явно из него вышли: доля наследственного имущества росла не переставая с 1970-х годов и стала вновь преобладать в 1980-1990-е годы; согласно последним имеющимся данным, во Франции в 2010 году на наследственный капитал приходилось около двух третей частного капитала, тогда как капитал, накопленный путем сбережений, составляет всего треть. Учитывая очень высокий уровень оборота наследства в наши дни, при сохранении сегодняшних тенденций доля наследственного имущества вполне вероятно продолжит расти в ближайшие десятилетия, превзойдет отметку в 70 % в 2020 году и приблизится к 80 % в 2030-2040-е годы. При осуществлении сценария, согласно которому темпы роста сократятся до 1 %, а доходность капитала вырастет до 5 %, доля наследственного имущества, возможно, будет увеличиваться и дальше и достигнет 90 % в 2050-2060-е годы, т. е. вернется к уровню Прекрасной эпохи.
Как мы видим, U-образная кривая, отражающая движение ежегодного оборота наследства в соотношении с национальным доходом в XX веке, сочетается с другой, не менее впечатляющей U-образной кривой, показывающей изменение накопленного объема наследственных состояний в пропорции к национальному доходу. Для того, чтобы понять, как связаны эти кривые, будет полезно сравнить уровень оборота наследства с нормой сбережений, которая, как мы видели во второй части книги, обычно составляет 10 % национального дохода. Когда оборот наследства достигает 20–25 % национального дохода, как это было в XIX веке, то это означает, что суммы, получаемые каждый год в виде наследства и дарений, в два раза превышают оборот новых сбережений. Если принять во внимание тот факт, что часть этих новых сбережений представляет собой доходы с наследственного капитала (в XIX веке это относилось к большей части сбережений), то становится очевидным, что при таких ежегодных оборотах наследственное имущество неизбежно возобладает над имуществом накопленным. Напротив, когда оборот наследства падает до 5 % национального дохода, как это было в 1950-1960-е годы, и в два раза уступает обороту новых сбережений (если предположить, что норма сбережений по-прежнему остается на уровне 10 %, как это и было в рассматриваемую эпоху), то нет ничего удивительного в том, что накопленный капитал начинает преобладать над капиталом наследственным. Ключевой факт заключается в том, что ежегодный оборот наследства вновь превзошел норму сбережений в течение 1980-1990-х годов и заметно превысил ее в 2000-2010-е годы: в начале 2010-х годов около 15 % национального дохода распределяется в виде наследства и дарений.
График 11.8
Ежегодный оборот наследства, выраженный в процентах к располагаемому доходу, во Франции в 1820–2010 годах.
ордината: Ежегодная стоимость наследств и дарований (в % к располагаемому доходу).

Примечание. Оборот наследства, выраженный в процентах к располагаемому доходу (а не к национальному доходу), в 2010 году достиг уровня в 20 %. что близко к показателям XIX века.
Источники: piketty.pse.ens.fr/capltal2Ic.
Для того чтобы было понятно, о каких суммах идет речь, стоит напомнить, что в начале XXI века в такой стране, как Франция, располагаемый (денежный) доход домохозяйств составляет около 70–75 % национального дохода (если учесть размеры натуральных трансфертов: здравоохранения, образования, безопасности, различных государственных услуг и т. д., не включаемых в располагаемый доход). Если выразить оборот наследства не в соотношении с национальным доходом, как мы делали до сих пор, а в пропорции к располагаемому доходу, то обнаружится, что наследства и дарения, ежегодно получаемые французскими домохозяйствами, в начале 2010-х годов составляют 20 % их располагаемого дохода, а значит, уже вернулись на уровень 1820-1910-х годов (см. график 11.8). Как мы уже объясняли в пятой главе, для проведения сравнений во времени и в пространстве более обоснованно использовать национальный доход (а не располагаемый) в качестве основного знаменателя. Тем не менее сравнение с располагаемым доходом также отражает определенные реалии, носящие более конкретный характер, и показывает, что на наследство уже приходится пятая часть денежных ресурсов, которыми располагают домохозяйства (и которые можно пустить, например, на сбережения), и скоро этот показатель достигнет четверти и даже больше.
Возвращение к монологу Вотрена. Для того чтобы составить еще более конкретное представление о том, что означает наследство в жизни различных людей, и дать точный ответ на экзистенциальный вопрос, прозвучавший в монологе Вотрена (какого уровня жизни можно достичь благодаря наследству и благодаря труду?), разумнее всего будет рассмотреть поколения, сменявшие друг друга во Франции с начала XIX века, и сравнить различные виды ресурсов, которые были им доступны в течение жизни. Только такой подход, сфокусированный на поколениях и на жизни в целом, позволяет в полной мере учесть тот факт, что наследство — это не такой ресурс, который мы получаем каждый год[386].
График 11.9
Доля наследств и дарений во всех ресурсах (наследства и дарения + трудовые доходы) поколений, родившихся в 1790–2030 годах.
ордината: Доля наследств и дарований во всех ресурсах по поколениям.

Примечание. Наследства и дарения составляли 25 % ресурсов поколений XIX века и всего 10 % ресурсов поколений, которые родились в 1910-1920-е годы (и должны были получить наследство в 1950-1960-е годы). Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
Исследуем в первую очередь эволюцию средней доли наследства и дарений во всех ресурсах, которые получали поколения, родившиеся во Франции в 1790–2030 годах (см. график 11.9). Мы действовали следующим образом. На основе информации, касающейся ежегодного оборота наследства, и подробных данных по возрасту умерших, наследников, дарителей и получателей дарений на протяжении всего изучаемого периода мы рассчитали долю наследств и дарений во всех ресурсах, получаемых человеком в течение жизни в зависимости от года рождения. После вычета налогов[387] все ресурсы, т. е., с одной стороны, наследство и дарения, а с другой — трудовые доходы, были капитализированы на протяжении всей жизни исходя из средней очищенной от налогов доходности капитала во Франции в различные годы. В первом приближении этот метод представляется наиболее обоснованным, однако стоит заметить, что он несколько недооценивает долю наследств и дарений, поскольку наследникам (и собственникам крупных состояний в целом) удается добиться более высокой доходности, чем обладателям сбережений, накопленных за счет трудовых доходов[388].
Мы получили следующие результаты. Если рассматривать всех людей, родившихся во Франции в 1790-е годы, в целом, то можно констатировать, что наследства и дарения составляли около 24 % от всех ресурсов, полученных ими в течение жизни, а значит, трудовые доходы достигали порядка 76 % от всех ресурсов. У тех, кто родился в 1810-е годы, доля наследства равнялась 25 %, а доля трудовых доходов — 75 %. То же можно сказать и обо всех поколениях, родившихся в XIX веке, или по крайней мере о тех, кто получил наследство до начала Первой мировой войны. Можно отметить, что доля наследства и дарений во всех ресурсах, составлявшая в XIX веке около 25 %, была немного выше, чем уровень оборота наследства, выраженный в пропорции к национальному доходу (в те времена он равнялся 20–25 %): это обусловлено тем фактом, что доходы с капитала, на которые обычно приходилось около трети национального дохода, де факто перетекали частично в наследство, частично в трудовые доходы[389].
У поколений, родившихся в 1870-1880-е годы, доля наследства и дарений во всех ресурсах стала постепенно сокращаться: это объясняется тем фактом, что все возрастающее число этих людей должны были получить наследство после Первой мировой войны, и им досталось меньше, чем предполагалось, вследствие потрясений, которые пережили капиталы их родителей. Самой нижней точки достигли поколения, родившиеся в 1910-1920-е годы: эти люди должны были унаследовать имущество сразу после Второй мировой войны и в 1950-1960-е годы, т. е. тогда, когда оборот наследства находился на самом низком уровне, в результате чего наследство и дарения составляли всего 8-10 % в их общих ресурсах. Рост начался с поколений, родившихся в 1930-1950-е годы, которые стали получать наследство в 1970-1990-е годы: для них оно составляло уже 12–14 % от всех ресурсов. Однако для поколений, родившихся в 1970-1980-е годы и начавших получать наследство в 2000-2010-е годы, оно приобрело невиданное с XIX века значение: около 22–24 % от всех ресурсов. Это со всей очевидностью показывает, что впечатляющий исторический опыт под названием «конец наследства» подходит к завершению; кроме того, мы можем видеть, насколько по-разному у различных поколений XX века складывались отношения со сбережениями и капиталом. Представителям поколения бэби-бума пришлось все делать самим, равно как и тем, кто родился в начале века и в межвоенный период и пережил две войны; те, кто родился в последней трети века, сталкиваются с ростом значения наследства и в этом отношении близки поколениям XIX и XXI веков.
Дилемма Растиньяка. До настоящего момента мы изучали лишь средние значения. Однако одна из главных отличительных черт наследства заключается в том, что оно распределено очень неравномерно. Приняв в расчет, с одной стороны, неравенство в наследстве, а с другой — неравенство в трудовых доходах, которое было рассмотрено выше, мы наконец сможем исследовать, в какой мере речь Вотрена справедлива применительно к различным эпохам. На графике 11.10 мы обнаруживаем, что поколения, родившиеся в конце XVIII века и в течение XIX века, в том числе и Эжен де Растиньяк (который, согласно описанию Бальзака, родился в 1798 году), действительно сталкиваются с ужасной дилеммой, описанной бывшим каторжником: заполучив имущество, можно добиться намного более высокого уровня жизни, чем учебой и трудом.
График 11.10
Дилемма Растиньяка для поколений, родившихся в 1790–2030 годах.
ордината: Кратные показатели к доходу 50 % хуже всего оплачиваемых наемных работников.

Примечание. В XIX вене 1 % самых крупных наследств обеспечивал намного более высокий уровень жизни, чем 1 % самых высоких зарплат.
Источники: piketly.pse.ens.fr/capital21 с.
Для того чтобы различные уровни ресурсов можно было рассматривать максимально детально, мы выразили их в кратных показателях относительно среднего уровня жизни, которого достигали в различные эпохи 50 % хуже всего оплачиваемых трудящихся. Этот уровень жизни, который можно считать низким, в целом соответствует половине среднего национального дохода в каждую рассматриваемую эпоху и является полезной опорной точкой для оценки неравенства в обществе[390].
Мы получили следующие результаты. В XIX веке ресурсы, которыми располагал в течение жизни 1 % самых богатых наследников (1 % людей, наследовавших самые крупные состояния среди их поколения), превышали примерно в 25–30 раз уровень жизни низших слоев населения. Иными словами, получив такое наследство, как правило от своих родителей или от родителей своего супруга или супруги, можно было в течение всей жизни держать 25–30 слуг, оплачиваемых на таком уровне. В то же время ресурсы, обеспечиваемые 1 % самых высоких зарплат (получаемых, например, судьей, прокурором или адвокатом, о которых говорит Вотрен), превышали этот уровень примерно в 10 раз. Это весьма существенно, но явно заметно меньше, тем более что, как справедливо отмечал бывший каторжник, на такие должности не так просто устроиться: одного блестящего диплома выпускника юридического факультета для этого мало; нужно еще и интриговать в течение многих лет, и даже в этом случае результат не гарантирован. В таких условиях, если вдруг по соседству обнаруживается наследство, относящееся к верхней центили, лучше его не упускать; по крайней мере над этим вариантом стоит поразмыслить.
Если произвести те же расчеты для поколений, родившихся в 1910-1920-е годы, то обнаружится, что для них вопрос выбора жизненного пути ставился совсем иначе. Один процент самых крупных наследств обеспечивал ресурсы, которые были всего в пять раз выше уровня жизни низших слоев. Что касается 1 % самых высоких зарплат, то они по-прежнему обеспечивали уровень жизни, который превышал этот показатель в 10–12 раз (это автоматически вытекало из того факта, что доля верхней центили в иерархии доходов в долгосрочном плане оставалась относительно стабильной и держалась на уровне 6–7 % от общего объема зарплаты[391]). Впервые в истории можно было жить в два раза лучше, имея зарплату на уровне верхней центили, по сравнению с наследством на том же уровне: учеба, труд и личные достоинства приносили больше выгоды, чем наследство.
Можно отметить, что для поколения бэби-бума выбор был столь же очевиден. Растиньяки, родившиеся в 1940-1950-е годы, были больше заинтересованы в том, чтобы добиться зарплаты верхней центили (которая по-прежнему обеспечивала уровень жизни, в 10–12 раз превышавший уровень жизни низших слоев), а не в том, чтобы поддаваться речам современных им Вотренов (наследства верхней центили были лишь в шесть-семь раз выше уровня жизни низших слоев). Во всех этих поколениях успех в карьере не только был нравственнее, но и приносил больший доход.
Полученные результаты также показывают, что на протяжении всего этого периода и во всех поколениях, родившихся между 1910-ми и 1950-ми годами, верхняя центиль в иерархии доходов в большинстве своем состояла из людей, живущих прежде всего за счет своих трудовых доходов. Это важное явление — не только потому, что прежде в истории такого не было (ни во Франции, ни во всех остальных европейских странах, по всей видимости), но и потому, что во всех обществах верхняя центиль — это очень значимая группа[392]. Как мы отмечали в седьмой главе, верхняя центиль представляет собой относительно широкую элиту, которая играет ключевую роль в экономической, политической и символической структуре общества[393]. Во всех традиционных обществах (напомним, что аристократия в 1789 году составляла от 1 до 2 % населения) вплоть до Прекрасной эпохи (несмотря на все надежды, порожденные Французской революцией) в этой группе всегда преобладал наследственный капитал. Тот факт, что для поколений, родившихся в первой половине XX века, ситуация складывалась иначе, является важнейшим событием, которое породило беспрецедентные надежды на то, что социальный прогресс необратим и что со старым миром покончено. Конечно, неравенство не исчезло и в течение Славного тридцатилетия, однако его рассматривали сквозь успокаивающую призму неравенства в зарплатах. В мире наемного труда, конечно, имелись существенные различия между рабочими, служащими и менеджерами: во Франции в 1950-1960-е годы эти диспропорции даже возрастали. Однако это был единый, основанный на общем меритократическом идеале мир, который исповедовал культ труда и который, как считалось, окончательно преодолел произвольное имущественное неравенство прошлого.
Поколения, родившиеся в 1970-1980-е годы, и в еще большей степени те, кто родился еще позже, столкнулись с совершенно другой реальностью. Выбор жизненного пути стал намного труднее: наследство верхней центили дает примерно такое же благосостояние, как и зарплаты верхней центили (и даже немного большее: наследство обеспечивает уровень жизни в 12–13 раз выше уровня жизни низших слоев, а труд — в 10–11 раз выше). Тем не менее можно отметить, что структура неравенства и верхней центили в начале XXI века тоже сильно отличается от того, что было в XIX веке: это обусловлено тем фактом, что концентрация наследства сегодня не столь высока, как прежде[394]. Нынешние поколения имеют дело с неравенством и с социальными структурами, которые в определенном смысле занимают промежуточное положение между циничным миром Вотрена (где наследство преобладало над трудом) и зачарованным миром Славного тридцатилетия (где труд преобладал над наследством). Если исходить из этих результатов, во Франции начала XXI века в верхней центили социальной иерархии наследство и трудовые доходы должны присутствовать в сопоставимых пропорциях.
Элементарная арифметика рантье и менеджеров. Резюмируем. Есть два условия, необходимых для процветания имущественного общества рантье, т. е. общества, в котором доходы с наследственного капитала преобладают над трудовыми доходами на вершине социальной иерархии, как в романах Бальзака и Джейн Остин. Прежде всего общий объем капитала и наследства в его рамках должен быть значительным. Обычно необходимо, чтобы соотношение между капиталом и доходом составляло шесть-семь лет национального дохода, а наследственный капитал представлял собой большую часть всего объема капитала. В таких обществах наследство и дарения могут составлять около четверти от всех ресурсов, которыми располагают в среднем различные поколения (и даже треть от всех ресурсов, если принять максимальную оценку неравенства в доходности капитала), как это было в XVIII–XIX веках и накануне Первой мировой войны. Это первое условие, касающееся объемов имущества, в XXI веке вновь удовлетворяется.
Второе условие заключается в том, что концентрация наследства и дарений должна быть очень высокой. Если бы они распределялись так же, как трудовые доходы (со схожими долями верхней децили, верхней центили и т. д. в общем объеме наследств, дарений и трудовых доходов), то мир Вотрена не мог бы существовать. Поскольку объем трудовых доходов по-прежнему намного превышает доходы, получаемые с наследства (по меньшей мере в три раза[395]), 1 % самых высоких трудовых доходов автоматически представлял бы собой намного более значительную сумму, чем 1 % самых крупных наследств[396].
Для того чтобы эффект концентрации превышал эффект объема, верхняя центиль в иерархии наследств должна владеть преобладающей частью общего наследственного имущества. Так было в обществах XVIII–XIX веков, в которых на верхнюю центиль приходилось около 50–60 % общего имущества (и даже 70 % в Великобритании в Прекрасную эпоху), т. е. примерно в 10 раз больше доли верхней центили в общем объеме зарплат (примерно 6–7 %: как мы видели, этот уровень оставался относительно стабильным в долгосрочном плане). Соотношение между концентрацией имущества и зарплат, равное одному к десяти, позволяет уравновесить соотношение между этими объемами, равное одному к трем, и объясняет, почему наследство верхней центили обеспечивало в три раза более высокий уровень жизни, чем зарплата уровня верхней центили в имущественном обществе XIX века (см. график 11.10).
Эта элементарная арифметика рантье и менеджеров также позволяет понять, почему верхние центили в иерархиях наследства и трудовых доходов более или менее уравновешивают друг друга во Франции начала XXI века. Имущественная концентрация примерно в три раза выше, чем концентрация зарплат (на долю верхней имущественной центили приходится чуть более 20 % общего имущества, а на долю верхней центили в пирамиде зарплат — 6–7 % общего объема зарплаты), а значит, она приблизительно уравновешивает эффект объема. Становятся понятными причины, по которым менеджеры столь явно преобладали над наследниками в течение Славного тридцатилетия (эффект концентрации, равный одному к трем, был слишком слабым для того, чтобы уравновесить мощнейший эффект массы, равный одному к десяти). Однако, если отвлечься от этих чрезвычайных потрясений и от специфических политических мер (прежде всего фискального характера), «естественная» структура неравенства скорее приводит к преобладанию рантье над менеджерами. Так, когда темпы роста невелики и доходность капитала заметно их превышает, концентрация имущества — по крайней мере в наиболее достоверных динамических моделях — практически неизбежно будет стремится к такому уровню, при котором высокие доходы с наследственного капитала значительно преобладают на высокими трудовыми доходами[397].
Классическое имущественное общество: мир Бальзака и Джейн Остин. Писатели XIX века, разумеется, не использовали те же категории, что и мы, для описания социальных структур своего времени. Однако они описывают те же глубинные основы мира, в котором только обладание значительным имуществом позволяет достичь подлинного благосостояния. Поразительно, насколько структура неравенства, масштабы и цифры, старательно приводимые и Бальзаком, и Джейн Остин, совпадали по обоим берегам Ла-Манша, несмотря на разницу в валюте, литературных стилях и интригах. Как мы уже отмечали во второй главе, денежные ориентиры были чрезвычайно стабильны в не знавшем инфляции мире, который описывают Бальзак и Джейн Остин, благодаря чему писатели могли очень точно определить, какой размер состояния и дохода обеспечивал минимальный уровень элегантной жизни и позволял избежать серого посредственного существования. В обоих случаях материальный и психологический порог в 20–30 раз превышал средний доход того времени. Жизнь героев Бальзака и Остин, находившихся ниже этого порога, была трудной и унизительной. Этого порога могли достичь те, кто относился к 1 % самых богатых в имущественном отношении людей (а еще лучше к 0,5 % самых богатых и даже к 0,1 %) во французском и английском обществах XIX века. Речь идет о вполне конкретной и довольно значительной в количественном отношении социальной группе; конечно, она представляла собой меньшинство, однако была достаточно многочисленной для того, чтобы определять структуру общества и вдохновлять на создание целого литературного мира[398]. Однако попасть в эту группу было невозможно благодаря профессии, какой бы прибыльной она ни была: 1 % самых высокооплачиваемых профессий ни в коей мере не обеспечивал такого уровня жизни (и даже 0,1 %)[399].
В большинстве этих романов денежные, социальные и психологические обстоятельства, неразрывно связанные друг с другом, обрисовываются на первых же страницах, а затем авторы о них регулярно напоминают для того, чтобы никто не забывал, что именно отличает этих персонажей, — все денежные символы, которые обуславливают их существование, соперничество, стратегии и надежды. В «Отце Горио» унижение старика выражается в том, что он должен был довольствоваться самой грязной комнатой и самой скудной пищей в пансионе Воке, чтобы урезать свои ежегодные расходы до 500 франков (т. е. примерно до ежегодного среднего дохода в ту эпоху: для Бальзака это синоним полной нищеты[400]). Старик пожертвовал всем ради своих дочерей, каждая из которых получила в приданое 500 тысяч франков, обеспечивавших ежегодный доход в размере 25 тысяч франков, что в 50 раз превышало средний доход. Во всех бальзаковских романах это было базовой единицей измерения состояния, выражением настоящего богатства и элегантной жизни. Контраст между двумя крайностями общества обозначен с самого начала. Тем не менее Бальзак не забывал о том, что между полной нищетой и настоящим благосостоянием существовали самые разные промежуточные ситуации, более или менее посредственные. Небольшое имение Растиньяков, расположенное близ Ангулема, приносило всего три тысячи франков (т. е. в шесть раз больше среднего дохода): для Бальзака это типичный пример мелкого провинциального безденежного дворянства, которое могло выделить всего 1 200 франков в год для того, чтобы Эжен мог отправиться изучать право в столицу. По словам Вотрена, ежегодный оклад в размере пяти тысяч франков (т. е. в 10 раз больше среднего дохода), который молодой Растиньяк мог бы получать в должности королевского прокурора после многих усилий и долгой неопределенности, представляет собой само воплощение посредственности и показывает лучше любых речей, что учеба ничего не дает. Бальзак рисует картину общества, где минимальная цель состоит в том, чтобы достичь уровня, превышающего тогдашний средний доход в 20, 30 или в 50 раз, как это было в случае Дельфины и Анастасии, получивших приданое, или даже в 100 раз — благодаря 50 тысячам франков ежегодной ренты, которые мог бы обеспечить миллион мадмуазель Викторины.
В романе «Цезарь Бирото» решительный парфюмер также стремится получить состояние в размере одного миллиона франков, одну половину которого он намерен оставить себе и жене, а вторую половину — отдать в приданое дочери, что необходимо для того, чтобы удачно выдать ее замуж и позволить будущему зятю спокойно выкупить нотариальную контору Рогена. Жена пытается склонить его к покупке земель, убеждая его в том, что они могут уйти на покой, имея две тысячи франков ежегодной ренты, и выдать свою дочь замуж с приданым, обеспечивающим всего восемь тысяч франков ренты, однако Цезарь и слышать об этом не желает: он не хочет кончить, как его компаньон Пильеро, который удалился отдел, имея всего пять тысяч франков ренты. Для комфортной жизни нужно иметь доход, превышающий средний как минимум в 20–30 раз: доход всего в пять или 10 раз больше среднего обеспечивает лишь простое выживание.
Точно такие же величины мы обнаруживаем на другом берегу Ла-Манша. В «Разуме и чувствах» («Sense and Sensibility») основная интрига, носящая как денежный, так и психологический характер, описывается на первых десяти страницах в ужасном диалоге между Джоном Дэшвудом и его женой Фанни. Джон только что унаследовал огромное имение Норланд, которое приносит четыре тысячи фунтов дохода в год, что более чем в 100 раз больше среднего дохода в ту эпоху (в Великобритании 1800-1810-х годов он составлял всего 30 фунтов в год[401]). Это само воплощение очень крупного земельного владения, которое в романах Джейн Остин представляет собой вершину благосостояния. Полковник Брендон со своим имением Делафорд, приносящим две тысячи фунтов в год (что более чем в 60 раз превышает средний доход), полностью соответствует тому, что можно ожидать от крупного землевладельца той эпохи. В других случаях мы обнаруживаем, что герою Остин оказывается вполне достаточно и тысячи фунтов в год. Вместе с тем Джон Уиллоуби с его 600 фунтами дохода (что в 20 раз больше среднего) находится так близко к нижней границе благосостояния, что возникает вопрос, как этому молодому порывистому человеку удается жить на широкую ногу, располагая столь скромными средствами. Этим, впрочем, объясняются причины, по которым он вскоре оставит Марианну, растерянную и безутешную, ради мисс Грей и ее приданого, составляющего 50 тысяч фунтов капитала (2 500 фунтов ежегодной ренты, что в 80 раз больше среднего дохода). Отметим, что по тогдашнему обменному курсу это почти равно приданому мадмуазель Викторины, составляющему один миллион франков. Как и у Бальзака, приданое, равное половине этой суммы, как то, что получили Дельфина и Анастасия, вполне удовлетворительно. Например, мисс Мортон, единственная дочь лорда Нортона, имеющая 30 тысяч фунтов капитала (1 500 фунтов ренты, что в 50 раз больше среднего дохода), представляет собой идеальную наследницу, за которой охотятся все потенциальные свекрови начиная с миссис Ферраре, которая была бы не прочь женить на ней своего сына Эдварда[402].
С первых страниц с благосостоянием Джона Дэшвуда контрастирует относительная бедность его сводных сестер Элинор, Марианны, Маргарет и их матери, которые должны довольствоваться 500 фунтов ежегодной ренты на четырех человек (т. е. 125 фунтов на каждую из них: это всего в четыре раза выше среднего дохода на душу населения), чего никак не хватает для того, чтобы выдать молодых девушек замуж. Миссис Дженнигс, большая любительница светских сплетен из Девоншира, часто с удовольствием и без обиняков напоминает им во время многочисленных балов, визитов вежливости и музыкальных сеансов, которые определяют ход их существования и на которых часто встречаются молодые соблазнительные претенденты, далеко не всегда на них остающиеся: «Скромность вашего состояния их удерживает, быть может». Как и в романах Бальзака, в произведениях Остин герои, располагающие доходом, в пять-шесть раз превышающим средний, живут очень скромно. Доходы, близки к среднему уровню в 30 фунтов или не достигающие его, даже не упоминаются. Можно догадаться, что это ближе к миру прислуги, а значит, об этом даже не стоит говорить. Когда Эдвард Ферраре решает стать пастором и получает приход Делифорд с ежегодным доходом 200 фунтов (в шесть-семь раз больше среднего), он выглядит почти святым. Даже если прибавить к этой сумме доходы с небольшого капитала, который оставила ему семья, чтобы наказать за мезальянс, и скромную ренту Элинор, это ничего особо не изменит: все удивляются, как они могут быть насколько ослеплены любовью, «чтобы воображать, будто в их силах прожить безбедно на триста пятьдесят фунтов в год»[403]. Этот счастливый и добродетельный конец не должен заслонять главного: отказавшись, по совету гнусной Фанни, помогать своим сводным сестрам и поделиться хотя бы толикой своего огромного состояния, несмотря на обещание, данное у смертного одра отца, Джон Дэшвуд обрек Элинор и Марианну на заурядное существование и на унижения. Их судьба была полностью предрешена ужасным диалогом в начале романа.
В конце XIX веке такая же денежная структура неравенства иногда обнаруживалась и в Америке. В романе «Вашингтонская площадь», опубликованном Генри Джеймсом в 1881 году и блестяще воспроизведенном в фильме «Наследница», который снял Уильям Уилер в 1949 году, сюжет полностью строится на недоразумении относительно размеров приданого. Выясняется, что эти суммы неумолимы и что ошибок лучше не совершать. Кэтрин Слоупер убеждается в этом на собственном опыте: ее жених сбежал, когда узнал, что ее приданое обеспечивает всего 10 тысяч долларов ежегодной ренты, а не 30 тысяч, как он рассчитывал (т. е. всего в 20 раз больше среднего дохода в США в ту эпоху, а не в шестьдесят). «Ты слишком некрасива», — бросает ей отец, овдовевший богач и тиран, подражая словам князя Болконского, обращенным к княжне Марье в «Войне и мире». Положение мужчин тоже может быть очень хрупким: в «Великолепных Амберсонах» Орсон Уэллс показывает нам крах надменного наследника Джорджа: в свои лучшие дни он располагал 60 тысячами долларов ренты (в 100 раз больше среднего дохода), однако автомобильная революция 1900-1910-х годов разорила его, и в итоге он был вынужден довольствоваться годовой зарплатой в 350 долларов, что было ниже среднего дохода.
Крайнее имущественное неравенство — необходимое условие цивилизации в бедном обществе? Интересно отметить, что писатели XIX века не ограничивались точным описанием современной им иерархии имущества и доходов. Часто они создают очень живую, осязаемую картину образа жизни, повседневной реальности, которую обеспечивают различные доходы. Иногда можно обнаружить и определенное оправдание крайнего имущественного неравенства того времени: между строк читается уверенность в том, что только оно позволяет существовать небольшой социальной группе, которая может заботиться не только о своем выживании, — неравенство является почти что необходимым условием цивилизации.
Так, Джейн Остин скрупулезно обрисовывает течение жизни в ту эпоху: ресурсы, необходимые для того, чтобы питаться, обставлять жилье, одеваться, перемещаться. Суть заключается в том, что в отсутствие современных технологий все стоит очень дорого и требует времени и прежде всего обслуживающего персонала. Слуги необходимы для получения и приготовления еды (хранить которую непросто), для того, чтобы одеваться (самое простое платье может стоить нескольких месяцев среднего дохода, а то и нескольких лет) и, разумеется, перемещаться. Для этого нужны лошади, экипажи, которые в свою очередь тоже требуют людей, которые будут ими заниматься, корм для животных и так далее. В этой ситуации читатель обнаруживает, что те, кто располагает доходом, превышающим средний в три или пять раз, объективно живут очень плохо и должны посвящать большую часть времени повседневным заботам. А если возникает желание обзавестись книгами, музыкальными инструментами, украшениями или бальными платьями, то для этого действительно необходимо иметь доход, превышающий средний в 20 или 30 раз.
В первой части книги мы уже отмечали, насколько трудно и наивно сравнивать покупательную способность в долгосрочном плане, ведь образ жизни и структура цен радикально изменились в самых разных отношениях. Поэтому эту эволюцию невозможно выразить одним-единственным показателям. Тем не менее можно напомнить, что, согласно официальным индексам, около 1800 года покупательная способность среднего дохода на душу населения в Великобритании и во Франции была примерно в 10 раз ниже, чем в 2010 году. Иными словами, те, кто в 1800 году располагал доходом, в 20 или 30 раз превышавшим средний, жили не лучше, чем те, кто сегодня имеет доход в два-три раза выше среднего. Доход, превышавший в 1800 году средний в пять-шесть раз, в современном мире означал бы, что его обладатель находится между минимальной и средней зарплатой.
Тем не менее герои Бальзака и Остин спокойно пользуются услугами десятков слуг, имен которых они обычно даже не знают. Писатели даже иногда высмеивают чрезмерные претензии и потребности своих персонажей, например когда Марианна, которая уже готовится выйти замуж за Уиллоби, краснея, объясняет, что, согласно ее подсчетам, трудно жить меньше чем на две тысячи фунтов в год (что более чем в 60 раз превосходит тогдашний средний доход): «Я убеждена, что мои требования очень умеренны. Содержать приличное число прислуги, экипаж или два и охотничьих лошадей на меньшую сумму просто невозможно»[404]. Элинор, не сдержавшись, замечает, что она преувеличивает. В свою очередь, Вотрен объясняет, что для достойной жизни нужно иметь доход не меньше 25 тысяч франков (что более чем в 50 раз превышает средний доход); он в деталях описывает расходы на одежду, слуг и перемещения. Никто не говорит ему, что он преувеличивает, но Вотрен настолько циничен, что это очевидно каждому читателю[405]. Те же непринужденные расчеты, основанные на таких же представлениях о благосостоянии, мы обнаруживаем в путевых заметках Артура Янга[406].
Каким бы излишествам ни предавались их персонажи, писатели XIX века описывают нам мир, в котором неравенство до определенной степени необходимо: если бы не существовало меньшинства, обеспеченного в достаточной мере имуществом, никто не мог бы заботиться о чем-либо, кроме выживания. Такое представление о неравенстве обладает хотя бы тем преимуществом, что не претендует на то, чтобы быть мери-тократическим. Делается определенный выбор в пользу меньшинства, которое живет за счет всех остальных, однако никто не утверждает, что это меньшинство достойнее или добродетельнее остального населения. Впрочем, в таком мире было совершенно очевидно, что только обладание имуществом может обеспечить достаточный для достойной жизни уровень благосостояния: диплом или квалификация, конечно, могут дать возможность зарабатывать в пять или 10 раз больше среднего уровня, но не больше. Современное меритократическое общество, особенно в Америке, намного менее снисходительно относится к проигравшим, поскольку претендует на то, что доминирование в нем основано на справедливости, добродетели и личных достоинствах, а также на недостаточной производительности труда неудачников[407].
Меритократический экстремизм в богатых обществах. Кстати, интересно отметить, что очень сильное неравенство в зарплатах — тем более сильное, что оно кажется более оправданным, чем неравенство в наследстве, — часто обосновывается самыми яркими меритократическими убеждениями. Со времен Наполеона до Первой мировой войны во Франции имелось небольшое количество высокопоставленных и очень хорошо оплачиваемых чиновников (их зарплата могла превосходить средний доход в 50 или даже в 100 раз), начиная с министров; это всегда оправдывали (в том числе и сам император, который был выходцем из корсиканского мелкого дворянства) тем, что самые способные и достойные должны иметь такое жалование, которое позволит им жить так же достойно и элегантно, как живут самые состоятельные лица (своеобразный ответ властей Вотрену). Как отмечал Адольф Тьер в 1831 году, выступая с трибуны палаты депутатов: «Префекты должны иметь такое же положение, что и видные граждане департаментов, в которых они живут»[408]. В 1881 году Пол Леруа-Болье объяснял, что государство, повышая лишь небольшие жалования, слишком самоустранилось. Он решительно встал на защиту крупных чиновников своего времени, большая часть которых получала не более «15 или 20 тысяч франков в год»; «эти цифры покажутся огромными непосвященному», однако в действительности «не позволяют жить элегантно и откладывать сколько-нибудь значительные сбережения»[409].
Возможно, наибольшее беспокойство вызывает то, что подобную аргументацию приходится слышать в самых богатых обществах, где доводы Остин о необходимости и достоинстве звучат не так часто. В Соединенных Штатах в 2000-2010-е годы такими аргументами пытаются оправдать заоблачные вознаграждения топ-менеджеров (в 50, 100 или даже больше раз превышающие средний доход): акцент делается на том, что если бы не было таких зарплат, то лишь наследники могли бы достичь настоящего благосостояния, что было бы несправедливо. В конечном счете доходы в размере нескольких миллионов или десятков миллионов евро, выплачиваемые топ-менеджерам, ведут к большей социальной справедливости[410]. Здесь видно, как постепенно создаются условия для установления еще более откровенного неравенства, чем в прошлом.
В будущем вполне может оказаться, что будут сочетаться друг с другом и возвращение очень сильного неравенства в наследственном капитале, и огромное неравенство в зарплатах, которое будет оправдываться соображениями достоинства и производительности (которые, как мы видели, на самом деле зиждутся на очень слабой фактической основе). Меритократический экстремизм тем самым может привести к гонке преследования между топ-менеджерами и рантье, а проигравшими будут все те, кто не относится ни к первым, ни ко вторым.
Также стоит отметить, что меритократические убеждения в обосновании неравенства в современном обществе играют роль не только на вершине иерархии, но и касаются диспропорций между низшими и средними классами. В конце 1980-х годов Мишель Ламон подробно опросил несколько сотен представителей «высшего среднего класса» в крупных (Нью-Йорк и Париж) и в средних (Индианаполис и Клермон-Ферран) городах Соединенных Штатов и Франции. Он спрашивал их о жизненном пути и о том, как они воспринимают свою социальную идентичность, свое место в обществе и свое отличие от других групп населения и от низших классов. Один из главных его выводов заключался в том, что в обеих странах «образованная элита» настаивала прежде всего на своих достоинствах и личных нравственных качествах, к числу которых они относили строгость, терпение, труд, усилия и т. д. (а также терпимость, любезность и т. д.)[411]. Герои Остин и Бальзака не сочли бы нужным так описывать свои личные качества по сравнению с характером своих слуг (которые, впрочем, даже не упоминаются).
Общество мелких рантье. Вернемся к сегодняшнему миру, а точнее — к Франции 2010-х годов. По нашим расчетам, для поколений, родившихся в 1970-1980-х годах, наследство и дарения будут составлять около четверти от всех ресурсов (состоящих от наследств, дарений и трудовых доходов, взятых вместе), которыми они будут располагать в течение жизни. А значит, в том, что касается общего объема, для нынешних поколений наследство и дарения уже имеют такое же значение, как и для поколений девятнадцатого столетия (см. график 11.9). Следует также уточнить, что речь идет о прогнозах, соответствующих основному сценарию; если же будут выполнены условия альтернативного сценария (снижение роста, повышение очищенной от налогов доходности капитала), то для поколений XXI века на наследство и дарения будет приходиться более трети, а возможно, и четыре десятых ресурсов[412].
Однако тот факт, что общий объем наследства и дарений вернулся на уровень, на котором находился в прошлом, не означает, что он играет такую же социальную роль, как в прошлом. Как мы уже отмечали, следствием очень сильного снижения концентрации собственности (доля верхней центили практически уменьшилась втрое за одно столетие, сократившись с 60 % в 1910-е годы до всего 20 % в начале 2010-х годов) и становления имущественного среднего класса стало то, что сегодня очень крупных наследств намного меньше, чем в XIX веке или в Прекрасную эпоху. Так, приданое в размере 500 тысяч франков, которое отец Горио и Цезарь Бирото хотят передать своим дочерям и которое обеспечивает ежегодную ренту в 25 тысяч франков (что примерно в 50 раз превышало тогдашний средний доход, составлявший 500 франков на человека), в сегодняшнем мире соответствовало бы наследству стоимостью 30 миллионов евро, ежегодно обеспечивающему проценты, дивиденды и арендные платежи на сумму 1,5 миллиона евро (что в 50 раз больше среднего дохода, составляющего около 30 тысяч евро[413]). Такие наследства существуют, есть даже и более крупные; однако число их явно меньше, чем в XIX веке, несмотря на то что общий объем имущества и наследств практически вернулся на уровень прошлого.
Впрочем, сегодня никто не стал бы кичиться имуществом в размере 30 миллионов евро, как это делали герои Бальзака, Джейн Остин или Генри Джеймса. Из литературы исчезли не только очевидные денежные ориентиры после того, как их уничтожила инфляция: сами рантье покинули ее, а с их уходом обновилось и все социальное изображение неравенства. В современной литературе и кино неравенство между социальными группами предстает практически исключительно в виде диспропорций в труде, зарплате, квалификации. На смену обществу, зиждившемуся на имущественной иерархии, пришла структура, почти полностью основанная на иерархии труда и человеческого капитала. Например, не может не поражать тот факт, что во многих американских сериалах 2000-2010-х годов появляются герои и героини, увешанные дипломами и обладающие сверхспециализированными навыками. Для того чтобы лечить тяжелые заболевания («Доктор Хаус»), разгадывать полицейские загадки («Кости») и даже быть президентом США («Западное крыло»), лучше иметь в кармане несколько научных степеней, ну, или Нобелевскую премию. Во многих таких сериалах можно распознать гимн справедливому неравенству, основанному на достоинствах, образовании и социальной полезности элит. Тем не менее стоит отметить, что в последних постановках отражается неравенство, вызывающее больше беспокойства и носящее более выраженный имущественный характер.
В сериале «Схватка» показаны ужасные патроны, которые украли сотни миллионов евро у своих служащих и супруги которых, являясь еще большими эгоистками, чем мужья, собираются развестись, но оставить себе все Имущество вместе с бассейном. В третьем сезоне, на который создателей вдохновило дело Мэдоффа, дети финансового мошенника делают все ради того, чтобы удержать контроль над активами своего отца, скрытыми на острове Антигуа в Карибском море, и сохранить тем самым свой уровень жизни в будущем[414]. В сериале «Грязные мокрые деньги» мы даже видим, как бестолковые молодые наследники, малоодаренные и не очень добродетельные, бесстыдно проматывают семейное состояние. Однако это остается исключением, а сам факт жизни за счет имущества, накопленного в прошлом, почти всегда подается в негативном и даже позорном ключе. Тогда как в романах Остин и Бальзака он считается естественным — достаточно лишь, чтобы у их персонажей подлинные чувства имелись хотя бы в минимальном количестве.
Это масштабное изменение коллективных представлений о неравенстве отчасти обоснованно, однако в его основе лежит целый ряд недоразумений. Прежде всего, очевидно, что диплом сегодня играет более важную роль, чем в XVIII веке. В мире, где у всех есть диплом и квалификация, не очень рекомендуется обходиться без них: каждый заинтересован в том, чтобы предпринять минимум усилий и получить какую-нибудь квалификацию; это касается и тех, кто наследует существенный недвижимый или финансовый капитал, тем более что, по мнению наследников, наследство им зачастую достается слишком поздно. Но это вовсе не означает, что общество стало более меритократическим. Так, это не означает, что доля национального дохода, приходящаяся на труд, действительно выросла (как мы видели, она практически не изменилась). И уж тем более это не означает, что каждый имеет доступ к равным возможностям для того, чтобы достичь различного уровня квалификации: в значительной степени неравенство в образовании просто переместилось выше, и ничто не указывает на то, что мобильность между поколениями в области образования действительно увеличилась[415]. Тем не менее передача человеческого капитала по-прежнему носит менее автоматический и механический характер, чем передача капитала недвижимого и финансового (наследник должен приложить минимальные усилия и волю), в результате чего широкое распространение получила вера в то, что конец наследства открыл бы дорогу немного более справедливому обществу, — и отчасти эта вера оправдана.
Главное же недоразумение, на мой взгляд, заключается в следующем. С одной стороны, конец наследства так и не наступил: изменилось распределение капитала, а это не одно и то же. Во Франции в начале XXI века количество очень крупных наследств — наследств стоимостью 30 миллионов евро или даже 5-10 миллионов евро — меньше, чем в XIX веке. Однако, если учесть тот факт, что общий объем наследств приблизительно вернулся к изначальному уровню, это означает, что стало намного больше средних состояний, например стоимостью 200 тысяч, 500 тысяч, один или два миллиона евро. Таких наследств совершенно недостаточно, чтобы отказаться вообще от всякой профессиональной деятельности и решить жить за счет ренты, однако они представляют собой значительные суммы, особенно по сравнению с тем, что зарабатывает значительная часть населения в течение своей трудовой жизни. Иными словами, мы перешли от общества с небольшим количеством крупных рантье к обществу с намного большим количеством менее крупных рантье — к своего рода обществу мелких рантье.
Показатель, который, на мой взгляд, лучше всего отражает эту эволюцию, изображен на графике 11.11. Речь идет о проценте людей в рамках каждого поколения, получающих в наследство или в виде дарения более значительные суммы, чем средства, которые 50 % хуже всего оплачиваемых работников зарабатывают в качестве трудовых доходов в течение жизни.
Эта сумма меняется от поколения к поколению: в настоящее время средний размер для нижней половины зарплат составляет примерно 15 тысяч евро в год, т. е. 750 тысяч евро за 50 лет карьеры (включая пенсию). Грубо говоря, столько приносит минимальная зарплата, получаемая в течение всей жизни. Можно констатировать, что в XIX веке около 10 % представителей каждого поколения наследовали суммы, превышавшие эту цифру.
Этот процент упал до 2 % для поколений, родившихся в 1910-1920-е годы, и до 4–5 % для тех, кто родился в 1930-1950-е годы. По нашим расчетам, этот показатель поднялся примерно до 12 % для поколений, родившихся в 1970-1980-е годы, и может достичь или превзойти 15 % для тех, кто родится в 2010-2020-е годы. Иными словами, примерно шестая часть каждого поколения будет получать в наследство больше, чем половина населения зарабатывает своим трудом в течение целой жизни (по большей части это та самая половина, которая не получает никакого наследства)[416]. Конечно, это не будет мешать шестой части получать дипломы, работать и в целом зарабатывать своим трудом больше, чем хуже всего оплачиваемая половина населения. Однако такое неравенство тоже вызывает тревогу, поскольку вот-вот достигнет невиданных в истории масштабов. К тому же его труднее изобразить в литературе и исправить политическими мерами, поскольку речь идет об обычном неравенстве, которое противопоставляет друг другу разные сегменты населения, а не элиту с одной стороны и все остальное общество — с другой.
График 11.11
Какая доля населения получает наследство, равное тому, что зарабатывается в течение целой трудовой жизни?
ордината: Часть населения, о которой идет речь.
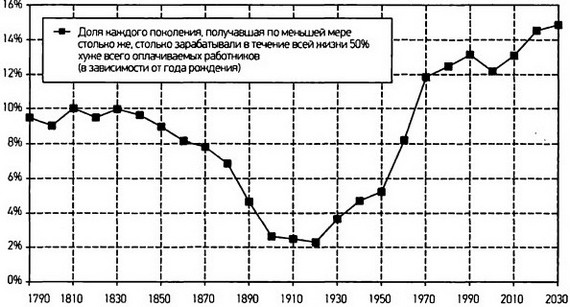
Примечание. От 12 до 14 % представителей поколений, родившихся в 1970-1980-е годы, получают наследство, равное трудовым доходам, которые 50 % хуже всего оплачиваемых работников зарабатывают в течение всей жизни.
Источники: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
Рантье — враг демократии. С другой стороны, ничто не гарантирует, что распределение наследственного капитала не вернется к высокому уровню неравенства, достигнутому в прошлом. Как мы уже отмечали в предыдущей главе, ни одна неумолимая сила не противодействует возвращению крайней имущественной концентрации, имевшей место в Прекрасную эпоху, особенно в том случае, если темпы роста значительно замедлятся, а очищенная от налогов доходность капитала заметно вырастет, например вследствие ожесточенной налоговой конкуренции. Если эволюция действительно пойдет в этом направлении, то, на мой взгляд, это может привести к серьезным политическим потрясениям. Наши демократические общества исходят из меритократических представлений о мире или по крайней мере из меритократических надежд, т. е. из веры в общество, в котором неравенство в большей степени определяется личными достоинствами и трудом, а не наследственностью и рентой. Эта вера и эти надежды играют ключевую роль в современном обществе по одной простой причине: при демократии провозглашаемое равенство прав гражданина вступает в противоречие с вполне реальным неравенством в уровне жизни; чтобы его разрешить, жизненно необходимо сделать так, чтобы социальное неравенство проистекало из рациональных и универсальных принципов, а не из произвольного стечения обстоятельств. Неравенство должно быть справедливым и полезным для всех («Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе», — гласит первая статья Декларации прав человека и гражданина 1789 года), по крайней мере на словах и, насколько это возможно, в реальности. В 1893 году Эмиль Дюркгейм даже прогнозировал, что современные демократические общества не будут долго терпеть существование наследства и в конечном итоге ограничат права собственности сроком жизни человека[417].
Кроме того, показательно, что сами слова «рента» и «рантье» в течение XX века приобрели ярко выраженную негативную окраску. В настоящей книге мы используем эти слова в их изначальном описательном смысле, т. е. для обозначения ежегодной ренты, производимой капиталом, и людей, которые на нее живут. Для нас рента, производимая капиталом, представляет собой лишь доходы, приносимые этим капиталом, будь то арендные платежи, проценты, дивиденды, прибыль, роялти или любые другие юридические их формы, общей чертой которых является тот простой факт, что они вознаграждают за обладание капиталом, вне зависимости от труда. Именно в этом изначальном смысле слова «рента» и «рантье» использовались в XVIII–XIX веках, например в романах Бальзака и Остин, когда преобладание имущества и доходов с него на вершине иерархии доходов полностью принималось и считалось допустимым, по крайней мере в кругу элит. Поразительно, что этот изначальный смысл постепенно утратился по мере того, как утверждались демократические и меритократические ценности. В течение XX века слово «рента» стало ругательством, оскорблением, вероятно, худшим из всех возможных. Эта языковая эволюция наблюдается во всех странах.
Особенно интересно отметить, что в наши дни слово «рента» часто используется в совершенно другом смысле, а именно для обозначения несовершенства рынка («монопольная рента») или в целом любого необоснованного или неоправданного дохода, какой бы ни была его суть. Иногда возникает впечатление, что рента вообще стала синонимом экономических проблем. Рента — это враг современной рациональности, и с ней следует бороться всеми средствами и прежде всего при помощи все более чистой и совершенной конкуренции. Недавний показательный пример такого использования слова «рента» прозвучал в интервью, которое нынешний председатель Европейского центрального банка дал крупнейшим газетам континента через несколько месяцев после своего назначения. Когда журналисты набросились на него с вопросами о стратегии выхода Европы из кризиса, последовал лапидарный ответ: «Нужно бороться с рентами»[418]. Никаких дополнительных разъяснений дано не было. Возникло ощущение, будто главный казначей подразумевал отсутствие конкуренции в сфере услуг, таких как такси, стрижка волос или чего-то в этом роде[419].
Проблема, связанная с таким использованием слова «рента», очень проста: тот факт, что капитал производит доходы, которые мы, следуя изначальному употреблению, называем «ежегодной рентой, производимой капиталом», вообще не имеет ничего общего с проблемой несовершенной конкуренции или с монополией. Раз капитал играет полезную роль в процессе производства, то вполне естественно, что он имеет доходность.
А в условиях слабого роста доходность капитала практически неизбежно оказывается заметно выше темпов роста, что автоматически придает несоразмерное значение имущественному неравенству, сформировавшемуся в прошлом. Это логическое противоречие нельзя разрешить путем увеличения конкуренции. Рента — это не проявление несовершенства рынка: напротив, она является следствием «чистого и совершенного», в понимании экономистов, рынка капитала, обеспечивающего каждому владельцу капитала — в том числе и наименее способному из наследников — самую высокую и диверсифицированную доходность, которую только можно найти в национальной или даже в мировой экономике. Конечно, есть нечто удивительное в понятии ренты, которую капитал производит, а его собственник может получать, не работая. Есть в нем что-то такое, что противоречит здравому смыслу и что сотрясало основы многих цивилизаций, которые на этот вызов давали разные и не всегда удачные ответы, от запрета ростовщичества до коммунизма советского типа (мы к этому еще вернемся). Тем не менее в рыночной экономике, основанной на частной собственности на капитал, рента реальна, и тот факт, что капитал из земельного превратился в недвижимый, промышленный и финансовый, никак на эту реальность не повлиял. Иногда думают, что логика экономического развития заключается в постепенном стирании различий между трудом и капиталом. На самом деле все происходит с точностью до наоборот: все возрастающая сложность рынка капитала и системы финансового посредничества все сильнее разделяет личность собственника и личность управляющего капиталом, а значит, и собственно доход с капитала и трудовой доход. Экономическая и технологическая рациональность порой никак не связана с рациональностью демократической. Первую породило Просвещение, и очень многие считали, что вторая естественным образом, словно по волшебству будет из нее проистекать. Однако реальная демократия и социальная справедливость требуют специфических институтов, которые не тождественны институтам рынка и которые не исчерпываются формальными парламентскими и демократическими институтами.
Подытожим: фундаментальная сила расхождения, на которой мы делаем акцент в этой книге и которую можно выразить формулой неравенства r > g, никак не связана с несовершенством рынка и не устранится в том случае, если рынки будут все более свободными и конкурентными. Представление о том, что свободная конкуренция позволит покончить с обществом наследства и приведет к установлению меритократического мира, является опасной иллюзией. Введение всеобщего избирательного права и отмена избирательного ценза (который в XIX веке давал право голоса лишь тем, кто владел достаточным имуществом, как правило, 1–2 % самых богатых собственников во Франции и Великобритании в 1820-1840-е годы, что примерно соответствует численности налогоплательщиков, обязанных платить налог на состояние, во Франции в 2000-2010-е годы) покончило с узаконенным политическим доминированием владельцев имущества[420]. Однако оно не упразднило экономические силы, которые приводят к формированию общества рантье.
Возвращение наследства: сначала европейский феномен, а затем и мировой? Можно ли расширить результаты, которые мы получили, изучая возвращение наследства во Франции, на другие страны? Учитывая ограничения, связанные с имеющимися данными, на этот вопрос, к сожалению, нельзя ответить абсолютно точно. Ни в одной другой стране нет таких богатых и систематических источников по наследству, как во Франции.
Тем не менее некоторые факты можно установить. Прежде всего, несовершенные данные, собранные на настоящий момент по другим европейским странам, особенно по Германии и Великобритании, показывают, что U-образная кривая, отражающая движение оборота наследства во Франции в течение XX века, применима ко всей Европе (см. график 11.12).
График 11.12
Оборот наследства в Европе в 1900–2010 годах.
ордината: Ежегодная стоимость наследств и дарований (в % к национальному доходу).
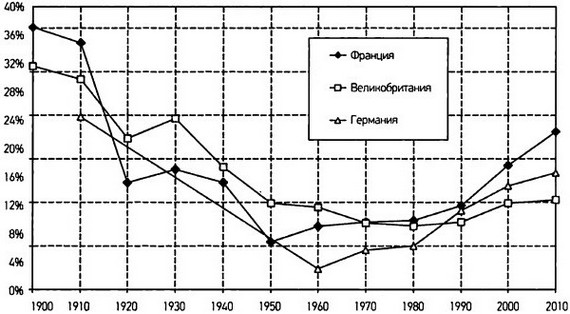
Примечание. Оборот наследства следует по U-образной кривой как во Франции, так и в Великобритании и в Германии. Возможно, в Великобритании дарения недооценены в конце рассматриваемого периода.
Источнини: piketty.pse.ens.fr/capital21с.
Так, в Германии имеющиеся расчеты — касающиеся, увы, лишь ограниченного числа лет — показывают, что оборот наследства рухнул еще сильнее, чем во Франции, в результате потрясений 1914–1945 годов, сократившись с 16 % национального дохода в 1910 году до всего 2 % в I960 году. После этой даты наблюдался его устойчивый и быстрый рост, который ускорился в 1980-1990-е годы, в результате чего в 2000-2010-е годы оборот наследства достиг примерно 10–11 % национального дохода. Это меньше, чем во Франции (около 15 % национального дохода в 2010 году), однако если учесть, что исходная точка в 1950-1960-е годы была ниже, то повышение оборота наследства в Германии оказывается большим. Кроме того, следует подчеркнуть, что нынешнее расхождение полностью объясняется разницей в соотношении между капиталом и доходом (т. е. эффектом ?, исследованным во второй части книги): если бы совокупность частного имущества в Германии достигла того же уровня, что и во Франции, то это произошло бы и с оборотом наследства (при прочих равных). Также интересно отметить, что сильное повышение оборота наследства в Германии в значительной мере обусловлено очень существенным ростом дарений, как и во Франции. Ежегодный объем дарений, зарегистрированных немецкими властями, составлял около 10–20 % от объема наследств до 1970-1980-Х годов, а затем постепенно вырос до 60 % к 2000-2010-м годам. Наконец, меньший оборот наследства в Германии в 1910 году в немалой степени был обусловлен более динамичным демографическим ростом за Рейном в Прекрасную эпоху (эффект т). По противоположным причинам, а именно вследствие демографического застоя в Германии в начале ХХI века, оборот наследства в ближайшие десятилетия может достичь более высокого уровня, чем во Франции[421]. То же касается всех европейских стран, где наблюдается сокращение населения и падение рождаемости, как, например, в Италии или в Испании, даже несмотря на то, что, к сожалению, по этим странам мы не располагаем надежными историческими данными.
В том, что касается Великобритании, можно констатировать прежде всего, что в Прекрасную эпоху оборот наследства достигал примерно таких же объемов, что и во Франции: около 20–25 % национального дохода[422]. В результате двух мировых войн оборот наследства упал не так сильно, как во Франции или в Германии, что обусловлено тем фактом, что объем частного имущества пострадал меньше (эффект ?) и что счетчики имущественного накопления не вернулись к нулевым значениям (эффект ?). Ежегодный оборот наследств и дарений сократился примерно до 8 % в 1950-1960-е годы и до 6 % в 1970-1980-е годы. Рост, наблюдающийся с 1980-1990-х годов, значителен, однако не настолько, как во Франции или в Германии: согласно имеющимся данным, оборот наследства в Великобритании едва превышает 8 % в 2000-2010-е годы.
В принципе, объяснений этому может быть несколько. Меньший оборот наследства в Великобритании может быть обусловлен тем, что более значительная часть состояний принимает форму пенсионных фондов, т. е. богатства, которое нельзя передать потомкам. Однако это объяснение лишь частичное, поскольку на пенсионные фонды приходится всего около 15–20 % от общего объема частного капитала в Великобритании. Кроме того, совсем не факт, что богатство жизненного цикла пришло на смену передаваемому богатству: с точки зрения логики обе формы имущественного накопления должны были бы дополнять друг друга, по крайней мере в масштабах отдельной страны, в результате чего страна, в большей степени полагающаяся на пенсионные фонды в финансировании пенсий, должна накапливать больший объем частного имущества и инвестировать часть его в другие страны[423].
Также возможно, что меньший оборот наследства в Великобритании обусловлен иным психологическим отношением к сбережениям и к передаче имущества по наследству. Однако прежде чем касаться этого вопроса, следует отметить, что расхождение, наблюдаемое в 2000-2010-е годы, полностью объясняется меньшим объемом дарений в Великобритании, которые оставались на уровне 10 % от объема наследства с 1970-1980-х годов, тогда как во Франции и в Германии они увеличились до 60–80 % от объема наследства. Учитывая сложности, связанные с регистрацией дарений, и различия в национальных практиках в этой области, это расхождение выглядит несколько подозрительно, и мы не можем исключать, что оно обусловлено, по крайней мере отчасти, недооценкой дарений в Великобритании. Исходя из имеющихся на настоящий момент данных, к сожалению, невозможно точно сказать, отражает ли менее значимое повышение оборота наследства в Великобритании реальную разницу в поведении (англичане, имеющие средства, потребляют свое имущество в больших масштабах и передают меньше своим детям, чем французы и немцы) или же речь идет о чисто статистической погрешности (если бы мы применили такую же пропорцию между дарениями и наследствами, которая наблюдается во Франции и в Германии, то оборот наследства в Великобритании в 2000-2010-е годы составил бы порядка 15 % национального дохода, как во Франции).
Источники по наследству в Соединенных Штатах ставят еще более сложные проблемы. Федеральный налог на наследство, введенный в 1916 году, по-прежнему затрагивает незначительное меньшинство наследств (как правило, всего 2 %), а обязательства по уведомлению о совершении дарения ограничены, в результате чего статистические данные, получаемые на основе этого налога, крайне несовершенны. К сожалению, налоговые данные невозможно полностью возместить за счет других источников. В частности, наследства и дарения сильно недооцениваются в опросах, касающихся имущества и проводимых во всех странах статистическими ведомствами. Это серьезно ограничивает наши знания, о чем часто забывают авторы, использующие данные этих опросов. Например, во Франции обнаруживается, что заявленные в опросах дарения и наследства составляют лишь половину оборота, фиксируемого налоговыми данными (которые, в свою очередь, недооценивают реальный оборот, поскольку не отражают освобожденные от уплаты налогов активы, такие как договоры о страховании жизни). Опрашиваемые явно забывают рассказать интервьюерам, что именно они получили, и выставляют свою имущественную историю в благоприятном для них свете (что, кстати, представляет собой интересное свидетельство восприятия наследства и дарений в современном обществе[424]). К сожалению, во многих странах, и прежде всего в Соединенных Штатах, невозможно провести сравнение опросов с налоговыми данными. Однако ничто не указывает на то, что расхождение между ними менее значимо, чем во Франции, тем более что в Соединенных Штатах общественное мнение настроено к наследству столь же отрицательно.
Кроме того, недостаточная надежность американских источников заметно усложняет точное изучение исторической эволюции оборота наследства в Соединенных Штатах. Отчасти это объясняет и ожесточенность споров, которые разгорелись в 1980-е годы среди американских экономистов вокруг двух противоположных тезисов: по одну сторону баррикад стоял Модильяни, пламенный защитник теории жизненного цикла, отстаивавший представление о том, что наследственные состояния составляли всего 20–30 % от общего объема американского имущества, а по другую — Котликофф и Саммерс, которые, исходя из имевшихся данных, приходили к выводу о том, что наследственные состояния достигали 70–80 % от общего имущества. Меня, молодого студента, открывшего для себя эти работы в начале 1990-х годов, этот спор просто шокировал: как можно расходиться во мнении по этому вопросу, особенно если речь идет о серьезных экономистах? Прежде всего нужно уточнить, что и тот, и другие исходили из данных довольно низкого качества, касавшихся конца 1960-х — начала 1970-х годов. Если пересмотреть эти оценки в свете данных, имеющихся сегодня, то истина, вероятно, окажется где-то посередине, но явно ближе к позиции Котликоффа и Саммерса: в Соединенных Штатах 1970-1980-х годов наследственное имущество составляло как минимум 50–60 % от всего имущества[425]. В целом, если мы попытаемся оценить эволюцию доли наследственных состояний в течение XX века таким же образом, как она показана для Франции на графике 11.7 (на основе намного более полных данных), то окажется, что U-образная кривая в Соединенных Штатах была менее выражена и что доля наследства была немного ниже, чем во Франции, как в начале двадцатого, так и в начале XXI века. Основной причиной этого стали более высокие темпы демографического роста в Америке, в результате которого уровень капитала относительно национального дохода был ниже (эффект ?), а состояния старели медленнее (эффекты ? и m). Однако эту разницу не стоит преувеличивать: в США наследство также играет значительную роль. Прежде всего следует вновь подчеркнуть тот факт, что эта разница между Европой и Америкой не связана с извечными культурными различиями: она объясняется в первую очередь различиями в демографической структуре и в росте населения. Если однажды рост населения в Соединенных Штатах прекратится, как предполагают долгосрочные прогнозы, то вполне вероятно, что возвращение наследства будет столь же значимым, как и в Европе.
Что касается бедных и развивающихся стран, то здесь мы, к сожалению, не располагаем надежными историческими источниками по наследству и его эволюции. Представляется вероятным, что если темпы демографического и экономического роста в них сократятся, что должно произойти в течение столетия, то наследство повсеместно будет играть такую же роль, как и во всех странах, где рост был слабым. В тех странах, где демографический рост будет отрицательным, наследство может приобрести невиданное прежде значение. Тем не менее следует подчеркнуть, что на это потребуется время. При нынешних темпах роста в развивающихся странах, например в Китае, кажется очевидным, что оборот наследства пока что очень невелик. Китайцам, которые находятся в активном возрасте и доходы которых возрастают на 5-10 % в год, очевидно, что их имущество в подавляющем большинстве случаев зависит от их собственных сбережений, а не от накоплений их дедушек и бабушек, которые имели намного более низкие доходы. Возвращение наследства в мировом масштабе, безусловно, является важной перспективой для второй половины XXI века. Однако в ближайшие десятилетия оно будет оставаться прежде всего европейским и, в меньшей степени, американским феноменом.