Очередное пришествие западников и славянофилов?
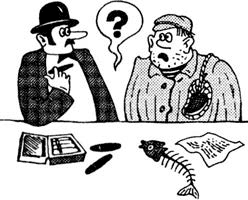
История первая – о двух течениях. Некоторое время назад ко мне на рецензирование поступила хорошая диссертационная работа. Помимо прочего, меня заинтересовала одна мысль, принципиально важная для позиции диссертанта. Автор утверждал, что в социальных науках в современной России сформировались два основных течения. Первое течение – западническое, которое оперирует иноземными концепциями, безразличными к российским насущным проблемам. Второе же течение – «эмпирическое» – берет начало из собственной российской почвы (или «окружающей действительности») и производит исследовательский аппарат, прямо рассчитанный на российские нужды. Далее шел прозрачный намек на то, что именно российское «эмпирическое» течение в конце концов и должно одержать верх над «чуждыми нашему духу заимствованиями». Разумеется, именно к этому течению и относил себя автор диссертации.
Итак, в который раз нас пытаются втянуть в ставшую доброй традицией борьбу между «западниками», которые начитались всяких «потусторонних» книжек, и «почвенниками», которые черпают свои теории прямо из «реальности»[24]. Вновь нас ставят перед привычной альтернативой – российская или западная теория? С этим вопросом в нашей профессиональной деятельности, явно или неявно, мы сталкиваемся постоянно. «С кем вы, работники науки?» В ответ слышишь одни и те же рассуждения о том, что, дескать, «эти теории – западные, они не адаптированы к российской реальности», что у нас в России все по-другому, нежели в «развитых странах Запада». А у менее притязательных исследователей эти высказывания принимают более агрессивно-наивную форму: «Мы, дескать, в западных теориях не сильны. Мы – эмпирики, изучаем российскую действительность как она есть». Слушать подобные рассуждения, откровенно говоря, надоело. Но отмахнуться от вопроса нельзя – слишком многие считают ответ очевидным.
Вариант неочевидного ответа предлагается А. Ф. Филипповым, профессионально занимающимся проблемами социологической теории. Он утверждает, что никакой российской теории в настоящее время нет и, более того, нет даже никаких претензий на создание собственного большого теоретического проекта[25]. С первой частью утверждения (об отсутствии российской теории), как ни обидно, мы вполне можем согласиться. А вот с его второй частью согласиться никак нельзя. Уж чего-чего, а претензий на формирование крупных теоретических проектов у нас хоть отбавляй. Нас хлебом не корми, только дай соорудить какую-нибудь оригинальную конструкцию, причем непременно вселенского или, как минимум, общероссийского масштаба.
История вторая – об уездной политической экономии. Недавно мне позвонил незнакомый человек, который представился проректором университета одного из областных центров Российской Федерации. Это сравнительно небольшой город, в котором проживает несколько сотен тысяч человек. Приводить его название мы не будем, поскольку речь пойдет о достаточно типичном явлении. Назовем его уездным городом N. Итак, этот совершенно незнакомый человек из города N сообщил мне, что ему и его коллегам пришлись по сердцу какие-то из моих работ и они очень просят, чтобы я выступил в качестве официального оппонента на защите диссертации одного из их молодых преподавателей. Я, естественно, попросил показать автореферат.
Из присланной работы я узнал, что, оказывается, в уездном городе N создана «новая политическая экономия». Все обстоит самым серьезным образом. У направления есть свои местные классики. В автореферате содержатся ссылки на их канонизированные работы, изданные в том же городе N. У классиков, видимо, есть свои ученики, которые продвигают «учение» в неокрепшие умы молодых студентов. Создана своя терминология, малопонятная для окружающих и наполовину состоящая из неверно понятых западных терминов. Регулярно проходят региональные конференции, которые развивают эту новую политическую экономию. Излагать ее суть я не возьмусь и не припомню, чтобы мне попадались на глаза какие-то публикации данного направления. Но сам факт показался довольно значимым.
Мне кажется, что в последние годы полным ходом шел процесс нарастающего регионализма – замыкания в профессиональных микросообществах и создания своих собственных доморощенных теорий. Причем, чем сильнее университет, чем выше его претензии на доминирование в регионе, тем заметнее проявляется тенденция к замыканию. Можно было бы по наивности предположить, что наши люди отрезаны от мировой научной мысли бескрайними российскими просторами и не имеют к ней доступа. Но, как минимум, с внешней точки зрения это далеко от действительности. Специалисты из региональных центров активно стажируются за границей, ведут проекты с западными партнерами, ссылаются на западных авторов. Но по-прежнему используемые западные концепции часто существуют автономно от работы с конкретным материалом[26]. Добавим, что это характерно не только для провинции, но и для Москвы.
В чем же дело? Во-первых, причина таится не в содержании западных теорий, а в нашей неспособности с ними работать. Академическое сообщество проходит стадию первичного ознакомления с этими теориями, и пока они, естественно, выглядят как «потусторонние» явления. Далее мы должны перейти к стадии освоения, т. е. научиться использовать их в конкретной эмпирической работе. В конечном счете именно для целей эмпирического исследования наших собственных российских реалий все и предпринимается. А во-вторых, представляется, что независимо от интенсивности ознакомления с западными теориями и контактов с западными коллегами работает своеобразный синдром отторжения, который перемалывает полученную информацию в муку локальных эклектичных построений. Как объяснить этот синдром?
В ходе постсоциалистических реформ мы потеряли не только советский строй, но и некое целостное видение мира, возможность разрешать ключевые вопросы, используя единую схему. Мировоззрение советского человека было построено на идеологемах ортодоксального марксизма, что приучило нас к интегральному восприятию действительности. А в такой дисциплине, как, например, социология, многие направления тяготеют к подобному восприятию. Поэтому сегодняшний синдром, помимо обычных региональных амбиций и комплекса противостояния столицам, во многом объясняется устойчивой потребностью в восстановлении разрушенной целостности. Москва, конечно, тоже не избежала этого синдрома.
Отсюда возникают то затухающие, то вновь поднимающиеся стенания о том, что мы должны понять общество, в котором мы живем, и обязаны предложить модель общественного устройства, к которому мы движемся (или хотим двигаться). Между тем новая целостная картина общества все никак не складывается. Во-первых, собственных красок не хватает, а знания из нахватанного бессистемным образом западного опыта пока довольно фрагментарны и в единую картину не ложатся. Ибо ворота на Запад распахнулись в одночасье, очень резко повысив интенсивность информационного потока. А во-вторых, внутри профессионального сообщества не создана соответствующая коммуникация, позволяющая вырабатывать конвенции по поводу тех или иных теоретических постулатов. Каждый прочитал с полдюжины каких-то западных книг, а обменяться мнениями, тем более договориться о чем-то еще «не успели».
В итоге возникают периодические попытки создать нечто «свое», причем копаться в мелочах людям не хочется, им надобно охватить все и сразу, построить глобальную схему. Так возникают доморощенные теории.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК